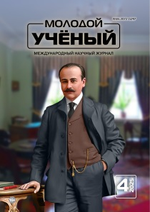Экологические преступления представляют серьезную угрозу для окружающей среды и человеческого благополучия. Однако рассмотрение только действий непосредственных исполнителей преступлений ограничивает полное понимание и эффективное противодействие этому явлению. В данной статье исследуется понятие соучастия при совершении экологических преступлений, его теоретические основы и практическое применение. Анализируются различные формы соучастия, включая активное и пассивное соучастие, а также их роль в формировании и распространении экологической преступности. Кроме того, обсуждаются проблемы, связанные с доказыванием соучастия в рамках уголовного процесса, и необходимость разработки эффективных стратегий пресечения и наказания соучастников экологических преступлений.
Ключевые слова: экологические преступления, соучастие, проблемы расследования соучастия, судебная практика, преступление.
Экологические преступления являются одной из наиболее острых проблем в современном обществе. Они не только наносят значительный ущерб окружающей среде, но и подрывают экономическую стабильность, здоровье людей и социальную справедливость. Традиционно внимание уделяется рассмотрению действий непосредственных исполнителей преступлений, в то время как роль соучастия остается недостаточно исследованной и понимаемой. Соучастие при совершении экологических преступлений является сложным и многоаспектным явлением, требующим детального исследования и анализа.
Н. С. Таганцев определяет соучастие как совместную виновность, предполагает единение в преступной деятельности в широком значении этого слова, хотя бы таковая по законной ее характеристике и в ее фактическом проявлении представлялась сложной, составленной из ряда действий, отделенных друг от друга и по месту, и по времени и тем не менее составляющих одно общее целое [1].
Ф. Г. Бурчак сформулировал следующее понятие: соучастие — это совместное участие двух или более лиц в совершении одного и того же умышленного преступления.
Критикуя положения, выдвинутые П. Ф. Тельновым [6], Ф. Г. Бурчаком и некоторыми другими авторами, Н. Г. Иванов предложил определение, которое более точно, на наш взгляд, отражает трактовку соучастия, данную законодателем: «Соучастием является совместное умышленное участие двух или более лиц в совершении одного и того же умышленного преступления».
Данная формулировка в достаточной мере лаконична и отражает все присущие соучастию признаки: совместность свидетельствует о двусторонней связи соучастников, а указание на умышленный характер преступления означает, что все признаки деяния, в том числе и признаки соучастия, охватываются умыслом всех лиц, участвующих в преступлении.
Групповое совершение экологических преступлений как квалифицирующий (особо квалифицирующий) признак встречается в гл. 26 УК, редко — в ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 260 (группа лиц по предварительному сговору и организованная группа), п. «а» ч. 2 ст. 260 (группа лиц) УК и в преступлениях с широким пониманием субъекта, обладающего, как правило, только признаками общего субъекта.
При проведении анализа судебной практики, а именно «Обзора практики применения судами положений гл. 26 Уголовного кодекса Российской Федерации об экологических преступлениях», было выделено несколько примеров [5].
Согласно приговору Икрянинского районного суда Астраханской области от 2 сентября 2021 года, граждане К., Л. и А. были осуждены по ч. 3 ст. 258 и ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ каждому из них назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Осужденные признаны виновными в незаконной добыче рыбы осетровых видов: русского осетра в количестве 4 экземпляров, белуги — 1 экземпляра и стерляди — 5 экземпляров. Данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, что привело к нанесению материального ущерба федеральным рыбным запасам Российской Федерации на сумму 781 581 рубль.
Помимо этого, К., Л. и А. незаконно добывали водные биологические ресурсы, используя запрещенные орудия лова и самоходное плавательное средство. Добыча производилась на миграционных маршрутах рыбы к местам нереста, в результате чего рыбным запасам был нанесен материальный ущерб в размере 203 520 рублей.
В обоснование квалификации действий осужденных по ч. 3 ст. 258 УК РФ суд отметил, что незаконно выловленные осетровые виды рыб включены в Перечень особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Данный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 31 октября 2013 года № 978. Эти виды являются объектом государственной охраны в соответствии с требованиями модельного закона «О сохранении осетровых рыб, их воспроизводстве, рациональном использовании и регулировании оборота продукции из них», который был принят постановлением от 17 апреля 2001 года № 23–16 на 23-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ [4].
30 января 2019 года Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу граждан Д. и Т., признав их виновными по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемым вменялась незаконная охота, совершенная в группе по предварительному сговору с использованием механического транспортного средства, что привело к причинению особо крупного ущерба.
Суд определил судьбу вещественных доказательств следующим образом: охотничий карабин «ВЕПРЬ-12» 12-го калибра вместе с тремя магазинами на 8 патронов были возвращены Т.; охотничье ружье «МР-43Е» 12-го калибра — Д.; а автомобиль марки УАЗ «Патриот» оставлен в распоряжении его собственника Т. Приговор суда в апелляционном порядке не обжаловался.
Однако позже представитель потерпевшего, Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, подал кассационную жалобу. В ней он указал на нарушения уголовно-процессуального закона, считая, что суд необоснованно принял решение о возврате орудий преступления их владельцам. На его взгляд, охотничье оружие и транспортное средство подлежали конфискации как использованные для совершения преступления.
22 мая 2019 года президиум Новосибирского областного суда частично удовлетворил кассационную жалобу. Он отменил решение суда первой инстанции в части определения судьбы вещественных доказательств — охотничьего карабина, ружья и автомобиля УАЗ «Патриот». Материалы дела были направлены на повторное рассмотрение в Коченевский районный суд, но с измененным составом суда [3].
По некоторым другим экологическим преступлениям, на наш взгляд, требуется дальнейшая дифференциация уголовной ответственности с учетом групповых способов их совершения. К таким преступлениям относятся, например, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, загрязнение вод, загрязнение морской среды, нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и исключительной экономической зоне РФ. В них должны быть предусмотрены части с самостоятельным и разным повышением ответственности за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и организованной группой. То, что некоторые из этих преступлений могут быть совершены специальным субъектом, не помеха для указанных квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков. Законодатель использует их и в таких составах (ч. 4 ст. 290 УК).
Еще один вопрос, который необходимо затронуть, — современная квалификация экологических преступлений, совершаемых специальным субъектом при помощи других лиц, в соучастии. Они квалифицируются как пособничество, подстрекательство или организация конкретного экологического преступления, с применением ст. 33 УК [2]. Невозможно лишь соисполнительство в таких преступлениях, в связи с наличием у субъекта преступления дополнительных признаков, которыми он обладает, как правило, из-за занятия определенной должности или допуска к определенной работе.
Подведя итог, можно сделать вывод, что соучастие при совершении экологических преступлений является важным аспектом, который необходимо учитывать при разработке стратегий борьбы с экологической преступностью. Понимание различных форм соучастия и их роли в формировании и распространении экологических преступлений поможет эффективно пресекать и наказывать соучастников. Дальнейшие исследования и анализ судебной практики позволят улучшить политику и законодательство в области экологической безопасности и создать более устойчивую и экологически ответственную общественную систему.
Литература:
- Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая / Н. С. Таганцев. — Тула : Автограф, 2001. — 800 с.
- Житков, А. А. Актуальные вопросы правового регулирования квалификации деяния при соучастии в преступлении / А. А. Житков. — Текст: непосредственный // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил). — Вологда: Вологодский институт права и экономики ФСИН, 2017. — С. 106–110.
- Таюрская, Е. А. Основные криминологические показатели преступности, связанной с незаконной охотой / Е. А. Таюрская. — Текст: непосредственный // Право и практика. — 2018. — С. 189–193.
- Постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 (в ред. от 05.10.2023) «Об утверждении перечня особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами российской федерации, для целей статей 226.1, 258.1 и 260.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] — Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153941/
- Обзор практики применения судами положений главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации об экологических преступлениях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.06.2022) [Электронный ресурс] — Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420088/
- Тельнов П. Ф. Ответственность за участие в преступлении / П. Ф. Тельнов. — М. : Юрид. лит, 1974. — 208 с.