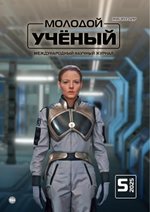В статье автор исследует проблемы квалификации уголовных преступлений в сфере несостоятельности (банкротства).
Ключевые слова : несостоятельность (банкротство), банкротство, преступления в сфере экономической деятельности, преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное банкротство, уголовная ответственность.
Развитие экономических отношений и экономики в целом, а также их функционирование, безусловно, нуждаются в таком правовом инструменте, как банкротство. Изменения в законодательстве несостоятельности (банкротства) направлены на поддержку хозяйствующих субъектов и физических лиц, оказавшихся в сложной экономической ситуации, а также позволяют кредиторам взыскать задолженность, используя специальные правила и нормы, реализуемые в рамках процедуры банкротства.
Однако при реализации процедур банкротства можно разграничить должников на два типа:
- оказавшихся в сложной экономической ситуации (финансовом кризисе) в результате конкуренции, изменения экономики, внешних факторов, обстоятельств непреодолимой силы и др.;
- умышленно вошедших в процедуру банкротства с целью неуплаты (освобождения от уплаты) задолженности.
Безусловно, отсутствие цели в виде погашения задолженности перед кредиторами является злоупотреблением и нарушением прав и законных интересов кредиторов и влечет административную и уголовную ответственность. Административная ответственность предусмотрена за преднамеренное и фиктивное банкротства, согласно ст. 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), и за неправомерные действия при банкротстве, согласно ст. 14.13 КоАП РФ.
Останавливаться на административной ответственности в данной статье мы не будем, а рассмотрим более сложную и, на наш взгляд, интересную — уголовную ответственность за преступления, совершаемые при несостоятельности (банкротстве). Так, Уголовный кодекс РФ (далее — УК РФ) предусматривает ответственность за вышеуказанные преступления: ст. 195 УК РФ — за неправомерные действия при банкротстве, ст. 196 УК РФ — преднамеренное банкротство, ст. 197 УК РФ — фиктивное банкротство. При этом официальная статистика показывает низкий уровень реализации норм уголовного законодательства в сфере несостоятельности (банкротства). Так, согласно Главе 22 Раздела 8 «Отчета о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам», за 2023 год число осужденных по ст. 195 УК РФ — 4 человека, по ст. 196 УК РФ — 21, по ст. 197 УК РФ — 0; за 1 полугодие 2024 года число осужденных по ст. 195 УК РФ — 4 человека, по ст. 196 УК РФ — 15, по ст. 197 УК РФ — 1 [1].
Подтверждает ли официальная статистика низкий уровень распространенности уголовных преступлений в сфере несостоятельности (банкротства)? Есть повод сомневаться. Обратимся к гражданской практике дел о банкротстве.
Например, по делу № А51–36241/2013 установлено, что до введения процедуры банкротства должник обладал имуществом (спецтехника), переданным по договорам финансовой аренды (лизинга) муниципальному предприятию. В преддверии дела о банкротстве с муниципального предприятия в судебном порядке в пользу должника взысканы лизинговые платежи в размере 57 млн руб. За три месяца до подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) должник заключил с аффилированным лицом договоры цессии (уступки права требования) на лизинговые платежи, взысканные с муниципального предприятия в судебном порядке. В арбитражном суде должник был заменен на правопреемника, и исполнительные листы выданы на аффилированное лицо. Федеральная служба судебных приставов взыскала лизинговые платежи в полном объеме. Стоит отметить тот факт, что на дату заключения договоров цессии у должника имелась задолженность в размере 19 млн руб., а также проводилась проверка, по результатам которой доначислено еще 20 млн руб., о чем должник был осведомлен. Денежные средства, взысканные по договорам финансовой аренды и поступившие на расчетный счет аффилированного лица, были выведены в пользу иных лиц, а само третье лицо исключено из ЕГРЮЛ.
В обоих юридических лицах учредителем являлось одно и то же физическое лицо. В Арбитражном суде Приморского края сделки по заключению договоров цессии признаны незаконными и оспорены: «…Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что заключенные договоры об уступке права требования привели к ухудшению финансового состояния должника. Установлено также, что в результате совершения оспариваемых договоров уступки права требования активы должника уменьшились на 57 млн руб. Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к выводам о том, что заключение оспариваемой сделки повлекло причинение вреда имущественным правам кредиторов, выразившегося в уменьшении размера имущества должника, утрате возможности кредиторов получить частичное удовлетворение своих требований…» [2]. Таким образом, в гражданском судопроизводстве подтвержден факт, что должник, не находясь в сложном финансовом положении (финансовом кризисе), реализовал реальные активы (рентабельные), что привело к процедуре банкротства. В установленном случае должник совершил действия (бездействие), заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что можно квалифицировать как состав преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Стоит отметить тот факт, что в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК, РФ МВД России было отказано в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Если окунуться в анализ установленного преступления, то, безусловно, можно определить наличие ущерба как обязательного признака материального состава (более чем 2,25 млн руб. на дату совершения преступления), согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ [3]. Также можно установить нарушение охраняемых законом прав и интересов — определенного Законом о банкротстве [4] порядка удовлетворения требований кредиторов, что в данном случае имеет признаки объекта преступления. Безусловно, в данной ситуации установлен и субъект преступления. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела, привлечении лица к уголовной ответственности спорной и сложно доказуемой представляется субъективная сторона, которая характеризуется прямым умыслом и целью (банкротство организации), хотя, исходя из материалов рассматриваемого дела о банкротстве, доказана и субъективная сторона преступления.
Сложившаяся судебная практика определяет умысел как совокупность всех обстоятельств действий (бездействия), в том числе способ совершения преступления, поведение правонарушителя, его дальнейшие действия. В данном случае преднамеренное действие по усугублению финансового положения должника, приведшее в невозможности рассчитаться с кредиторами, констатирует факт умысла на преднамеренное банкротство.
Исходя из данных судебной статистики и практики гражданских судов, мы можем наблюдать лишь фрагментарную включенность органов уголовной юстиции в процесс регулирования отношений, связанных с неправомерными действиями при банкротстве. При этом отсутствуют однозначные критерии дифференциации гражданско-правовых деликтов и уголовно-противоправных деяний в рассматриваемой сфере, что предопределяет выводы о необходимости дальнейшего совершенствования правовой базы [5].
Таким образом, по итогам проведенного нами анализа можно сделать следующие выводы. Частичная включенность правоохранительных органов в процесс регулирования отношений, связанных с преступлениями, совершаемыми в сфере несостоятельности (банкротства), не соответствует современным потребностям регулирования таких отношений. Отсутствие однозначных критериев разграничения гражданско-правовых деликтов и уголовно-противоправных деяний в сфере несостоятельности (банкротства) предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования законодательства об ответственности за преступления в сфере несостоятельности (банкротства).
Литература:
- Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2024 года. — Текст : электронный // Судебный департамент при Верховном Суде РФ : [сайт]. — URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8775 (дата обращения: 21.01.2025).
- Дело № А51-36241/2013 // Архив Арбитражного суда Приморского края.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Постатейный. 9-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Г. А. Есакова. — М. : Проспект, 2021. — С. 848.
- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О несостоятельности (банкротстве)».
- Лаптев, Д. Б. Проблемы реализации норм о преступлениях в сфере банкротства / Д. Б. Лаптев, З. А. Гордиенко. — Текст : непосредственный // Безопасность бизнеса. — 2022. — № 5. — С. 41–44.