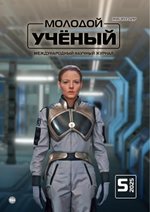Статья посвящена анализу реализации шариатского судопроизводства в Оренбургском магометанском духовном собрании (ОМДС). В ней рассматривается история и структура ОМДС, который с момента своего создания в конце XVIII века стал важной инстанцией правосудия для мусульманского населения региона.
Ключевые слова : ОМДС, шариат, казый, имам-хатиб, судебная коллегия, правосознание мусульман
С момента своего учреждения в конце XVIII века, ОМДС стал ключевым элементом в системе правосудия для мусульманского населения региона, обеспечивая соблюдение шариатских норм и традиций. Итак, в 1793 году, когда был издан «Указ сенатский 17 августа 1793 г. «о выборе мулл в учрежденное в Уфе духовное правление магометанского закона через три года», была окончательно выработана формула избрания казыев ОМДС: «Уфимский Губернатор, Г-н Генерал-Поручик Пеутлинг уведомляет,... что во всех Судебных местах1 лица, заседающие в результате выборов от общества, через каждые три года должны быть заменены новыми людьми.
Сенат, следуя правилам, предписанным для средних Судебных мест в Высочайшем Учреждении Губернии, с которыми сравнимо Духовное собрание, и не считая, что Муллы должны оставаться на посту более трех лет, полагает, что в назначении новых Мулл нет ничего противозаконного» [4].
Таким образом, на общегосударственном уровне был окончательно закреплен принцип, согласно которому ОМДС является судебной инстанцией, а его члены (муфтий и три казыя) образуют вместе постоянно действующую судебную коллегию, при этом срок пребывания казыев на посту равен 3 годам.
Мусульманское «духовенство» находилось под контролем государства, полностью определявшего его кадровый состав. Механизм надзора за духовными лицами устанавливался указом, при этом основное внимание уделялось их лояльности Российскому государству («люди, в верности надежные»...) [5].
Основные вопросы, находившиеся в ведении ОМДС:
- испытание лиц, претендовавших на должности имам-хатиба, имама, муэдзина и др.;
- надзор за деятельностью мулл и надлежащим исполнением ими религиозных обязанностей, а также наложение взысканий за производимые ими нарушения;
- постройка, ремонт мечетей и назначение в них служителей культа;
- надзор за ведением метрических книг;
- рассмотрение в качестве второй инстанции жалоб на приходское духовенство по таким вопросам, как: правильность исполнения обрядов, заключение и расторжение браков, споры, связанные с разделом наследственного имущества, неповиновение детей родителям, нарушение супружеской верности;
- распоряжение брачными и другими сборами, получаемыми приходским духовенством;
- управление приходским имуществом, а также имуществом религиозных учебных заведений;
- причисление к приходам лиц, прежде относившихся к другим вероисповеданиям [5].
Ш. Марджани указывал, что Духовному собранию были доверены следующие задачи: «выдавать мусульманам, находящимся в подчинении, фетвы о правильности или неправильности действий в религиозной и духовной сферах; проводить экзамены для тех, кто назначается на должности, связанные с Шариатом, такие как ахуны, мухтасибы, мударрисы, хатыбы, имамы и муэдзины, в области науки, практики и морали; выдавать разрешения на строительство и ремонт мечетей; осуществлять раздел имущества мусульман в соответствии с Шариатом» [7].
Мулла или абыз выполнял для своей общины роль не только духовного лидера, но и судьи и наставника по вопросам шариата. Улемы с более глубокими знаниями мусульманского права назывались ахунами (ахундами) и пользовались большим уважением среди людей. Когда возникали споры в области семейного и наследственного права, местные муллы и ахуны (иногда в составе группы) собирались, чтобы создать шариатский суд, куда приглашались истец, ответчик и свидетели для обсуждения дела и вынесения решения. Этот процесс имел коллегиальный и общественный характер.
С учреждением ОМДС практика применения шариата претерпела значительные изменения. Основной причиной этих изменений стало то, что ОМДС стал функционировать как апелляционный суд. В своем проекте барон Осип Андреевич Игельстром, назначенный в 1784 году генерал-губернатором Симбирска и Уфы, рассматривал ОМДС как суд средней инстанции, приравнивая его к другим судебным учреждениям. Если мусульмане были недовольны решением местного имама, российское законодательство позволяло им обращаться к высшему духовенству в собрании. Проект Игельстрома предлагал мусульманам, недовольным решением имама, направлять свои жалобы в ОМДС [2].
В 1913 году в округе ОМДС насчитывалось 4,572,276 мусульман, что составляло около 25 % всех последователей ислама в империи, а также 6,144 мечетей и 12,341 представителя духовенства. Обширная территория и большое население оказывали влияние на деятельность Духовного собрания и его судебные функции [6, оп. 11, д. 882, л. 45].
Во второй половине XIX века ОМДС начало получать множество жалоб от мусульман, в основном касающихся решений местных имамов по вопросам семейного права, особенно от женщин, которые просили пересмотреть решения о разводе. Члены Духовного собрания регулярно собирались на заседания для рассмотрения новых дел, где секретарь фиксировал процесс в «Журнале присутствия ОМДС».
Записи в журнале содержали резюме дел, включая жалобы, отчеты имамов, показания свидетелей и постановления ОМДС. Собрание могло отменить решения имама или вернуть дело ему для более тщательного расследования. Если истцы были недовольны, ОМДС часто назначало другого ахуна или имама-хатыба для повторного рассмотрения. Имамы, помимо судебной функции, также выполняли обязанности инспекторов, о чем свидетельствовали их отчеты. Мусульмане часто просили направить дело к определенному имаму или ахуну, и такие просьбы, как правило, удовлетворялись [6, оп. 2, д. 278 (запись в журнале от 5 августа 1905 г.); 6, оп. 10, д. 694 (записи в журнале от 7 сентября 1900 г. и от 21 мая 1907 г.)].
После нового расследования имамы должны были подготовить и отправить в ОМДС отчеты, в которые они включали все документы по разбирательству дела с показаниями свидетелей. Это была еще одна мера в системе контроля, разработанной бароном Игельстромом. В своем проекте он предложил, чтобы «всякий магометанского закона духовный чин, когда утвердит развод брака, сделал о том Духовному собранию донесение с обстоятельным объяснением всех причин, оправдывающих развод, дабы Духовное собрание могло видеть, что им наблюдены справедливость и законопредписание, а в случае несоблюдения оных уничтожить решение его» [2]. Архивные документы показывают, что по делам, которые были апеллированы в ОМДС, установилась следующая судебная практика. Когда ОМДС по жалобе мусульман назначало дело имаму или ахуну, последний посылал отчеты о проделанной работе. Как правило, ОМДС просило имама подготовить отчет по конкретным вопросам и делам, например, объяснить свой отказ совершить брак.
Документы также показывают, что часто имамы должны были объяснить ОМДС, почему и как они пришли к решению той или иной семейной проблемы [6, оп. 10, д. 694]. Хотя официально в документах Оренбургское магометанское духовное собрание часто называли «Мәхкәмә-и шәргыя» (шариатский суд), и оно должно было выступать в качестве суда апелляционной инстанции, его деятельность сильно отличалась от любого шариатского суда. Мусульмане не приезжали в Уфу, чтобы представить свои дела и защищать их в суде, но обращались в ОМДС с письменной жалобой.
На практике ОМДС не всегда (скорее, редко) самостоятельно разрешало спор и выносило решение. Как правило, оно просто перенаправляло дело ахуну или хатибу (чаще первому) или губернским властям, если дело подлежало рассмотрению по общероссийским законам, или просто отсылало обратно просителю, ссылаясь на то, что вопрос не в его компетенции. Тем не менее, ОМДС вело всю переписку между имамами, губернскими чиновниками и прихожанами. Иными словами, оно следило за тем, как дело продвигалось, и требовало, чтобы имамы и ахуны, которым были поручены дела, а также губернские чиновники докладывали о производстве дела. Эта особенность отражается и в журнале заседаний: часто невозможно узнать, как дело закончилось, поскольку оно было передано другому духовному лицу или губернским властям.
Несмотря на то, что ОМДС не было частью судебной системы Российской империи и стояло обособленно как отдельный институт в течение XIX в., оно все интенсивнее начало взаимодействовать с российскими судами и другими губернскими учреждениями. Во- первых, невзирая на то, что имперский закон оставил вопросы мусульманского семейного и наследственного права на усмотрение мусульманской общины, эта автономия постепенно урезалась на протяжении XIX в. Изменения начали вводить при Николае I.
С новым законом 1836 г. о минимальном возрасте брачующихся, включая мусульман, дела и жалобы, касающиеся браков молодых людей, не достигших совершеннолетия по российскому закону, стали находиться под юрисдикцией губернских правлений и подаваться губернским чиновникам. Другой новый закон 1836 г. ограничил полномочия ОМДС в сфере наследственного права: теперь оно могло рассматривать только те дела, по которым все стороны соглашались обращаться в ОМДС. Если одна из сторон была недовольна решением Духовного собрания или вовсе не желала туда обращаться, дела должны были направляться в гражданские суды [1].
Ряд дел о расторжении браков ОМДС разрешало в качестве суда первой инстанции:
- по безвестному отсутствию одного из супругов;
- за присуждением супруга к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния;
- магометанок, состоявших в браке с воинскими чинами, совершившими побег со службы, пропавшими на войне без вести и взятыми неприятелем в плен.
Так, согласно справке о размерах делопроизводства ОМДС, за 1913 г. было рассмотрено бракоразводных дел — 1691, наследственных — 272, по жалобам на действия духовных лиц — 258, о сооружении, ремонте и перестройке мечетей — 277, об определении духовных лиц -258, по выдаче удостоверений о наследственных правах — 142 и т. д. [6, с. 56]. На членов собрания ложилась немалая служебная нагрузка, в связи с чем оренбургские муфтии не раз обращались к властям с просьбой о расширении штата собрания.
Если мусульмане имели претензии по собственности и касающиеся идды или калыма, они должны были обращаться в светский суд [6, оп. 2, д. 282 (запись в журнале от 17 февраля 1907 г.)]. По вопросам, связанным с опекой над детьми, мусульмане также должны были обращаться туда же [6, оп. 2, д. 275 (запись в журнале от 7 мая 1905 г.)]. Но даже при наличии этих законов во многих случаях мусульмане предпочитали отправлять петицию в ОМДС, которое часто вынуждено было отвечать отказом и разъяснениями.
Взаимодействие ОМДС и российских судов касалось, в частности, наследственных споров. Когда мусульмане обращались в государственные суды по вопросам наследства, суды запрашивали ОМДС о правильности распределения наследства согласно шариату. Губернские учреждения также взаимодействовали с ОМДС, играя важную роль в процессуальной стороне шариатских дел, что свидетельствовало о глубокой интеграции мусульманской общины Поволжья и Приуралья в имперскую бюрократию.
Имамы часто общались с местными чиновниками, а ОМДС мог запрашивать у них разъяснения по делам и отправлять информацию о ходе дел. Это привело к трансформации шариата от общинного института к регулируемому государственными учреждениями, особенно Духовным собранием.
В XIX веке муллы постепенно становились частью бюрократической системы, и их обязанности определялись российским законом. Бюрократизация проявлялась в использовании официальных бланков и печатей, что указывало на снижение сакрального значения мечети и превращение её в служебное место имама. С изменением статуса имама его роль в обществе изменилась с «представителя общества» на «представителя государства», что привело к расхождению интересов между муллами и общиной [3].
Таким образом, реализация шариатского судопроизводства в ОМДС не только иллюстрирует сложные отношения между религиозными и светскими институтами, но и служит важным примером того, как традиционные нормы права могут сосуществовать и взаимодействовать с современными правовыми системами.
Литература:
- Арапов Д. Ю. Ислам в Российской империи // Ислам в Российской империи: законодательные акты, описания, статистика / сост. Д. Ю. Арапов. М., 2001. — 366 с.
- Материалы по истории Башкирской АССР. Т.5. / сост. Н. Ф. Демидова; под ред. С. М. Васильева. — М.: 1960. — 782 с.
- Оренбургское магометанское духовное собрание как шариатский суд Текст научной статьи по специальности «История и археология» Гарипова Р. Р. Гасырлар авазы — Эхо веков Научный журнал на тему: История и археология 2014. С. 29–31.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое, 1789–1796 гг. — Т.23. — СПб.: Типография II собственной Его Императорского величества Канцелярии, 1830. С 452–454. — 974 с
- Хабутдинов А. Ю. Оренбургское магометанское духовное собрание как основополагающий общенациональный институт в 1788–1917 гг. // Pax Islamica. 2010 № 1(4). С. 95–119.
- Центральный государственный архив Республики Башкортостан (ЦГА РБ), ф. 295.
- Марджани Ш. Аль-кысм ас-сани мин китаб мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Болгар. Казань, 1900.