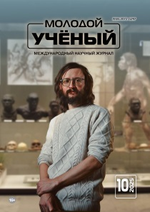В год, когда вся наша страна будет отмечать знаменательную дату восьмидесятилетия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., мы будем вспоминать всех тех, кто в трудный для Родины час не щадил своей жизни в борьбе с сильным и коварным врагом — германским фашизмом.
Нам посчастливилось в своей жизни принять участие в поиске и нахождении захоронения одного из таких героев, посчастливилось учиться и закончить школу имени этого выдающегося полководца, посчастливилось познакомиться и обрести друзей в лице белорусских родственников командарма.
В этой статье мы хотим рассказать о судьбе и подвиге Героя Советского Союза, командующего 5-ой танковой армией, генерал-майоре Александре Ильиче Лизюкове. Для создания статьи мы использовали письма и работы Ивана Николаевича Афанасьева, внучатого племянника командарма. Не одно десятилетие посвятил Иван Николаевич, буквально по крупицам, собирая мозаичное полотно жизни и подвига своего великого предка. Низкий поклон другу нашего отца, руководителю воронежского поискового объединения «Дон» — Сегодину Михаилу Михайловичу. После обнаружения останков генерала, Михаил Михайлович многие часы работал в подольском архиве МО РФ, несколько раз были посланы запросы в архив Бундесвера. Проведены доскональные экспертные работы по методу Герасимова.
За достаточно короткое время, с исторической точки зрения, буквально из небытия, имя Александра Ильича Лизюкова заняло своё достойное место в рядах выдающихся полководцев, защитников Отечества.
Будущий командарм родился в Гомеле 26 марта 1900 года, в семье учителя — Ильи Устиновича Лизюкова. Александр Ильич был средним из трёх братьев, старший — Евгений Ильич, и младший — Пётр Ильич. В 1909 году семью постигло большое несчастье, вскоре после рождения младшего сына Петра, умирает мать. Глава семьи, женившись повторно, привёл в дом мачеху, не приняв её, братья ушли жить в семью своего дяди, Афанасия Устиновича и Варвары Терентьевны Лизюковых, Александр в это непростое время учился в гимназии. Будущий полководец особенно сдружился со своей двоюродной сестрой — Лидией Афанасьевной Лизюковой-Горуновой.
Здесь мы позволим себе небольшое отступление, немного рассказать о другой ветви рода Лизюковых. Галина Ивановна Афанасьева — дочь Лидии Афанасьевны — жена Николая Ивановича Афанасьева (доктора технических наук, который 15 лет, с 1972 до 1987 г., был генеральным директором «Гомсельмаша»). Их сын, Иван Николаевич Афанасьев кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русской и мировой литературы в Гомельском государственном университете им. Франциска Скорины, закончил аспирантуру под руководством Алеся Адамовича, занимается исследованием творчества Василя Быкова, с которым он был знаком много лет. Будучи в Гомеле, нам посчастливилось посетить эту гостеприимную семью, почаёвничать с радушными хозяевами в доме, который перед самой войной построил Александр Ильич Лизюков для своей любимой сестры. Именно Иван Николаевич, уже тогда много лет собиравший документы и материалы по героической истории трёх братьев Лизюковых, рассказал нам о судьбах Евгения Ильича и Петра Ильича. По словам Ивана Николаевича Афанасьева: «Все три брата несомненно были талантливы в воинском искусстве. Количественное превосходство противника никогда не было для них определяющим фактором при решении поставленной боевой задачи». Сразу нужно отметить, что семья Лизюкова — одна из немногих в истории, где два брата, Александр и Пётр, были удостоены звания Героя Советского Союза, а на старшего, Евгения, представление на высшую награду так и осталось на бумаге.
В состав Минского партизанского соединения входил отряд имени Дзержинского, командиром которого был Евгений Ильич Лизюков. Случайная пуля, во время столкновения с блуждающей в котле немецкой частью, оборвала жизнь отважного командира-партизана Евгения Лизюкова. Краткосрочный бой с гитлеровцами произошёл в то самое время, когда отряд Лизюкова выдвигался в Минск для участия в знаменитом партизанском параде 1944 года.
Окончив 1-ю артиллерийскую школу им. «Красного Октября», младший брат, Петр Лизюков, успел повоевать и под Сталинградом, и на Карельском перешейке, где его подразделение получило почетное наименование «Ленинградской». Затем были тяжёлые, ожесточенные бои в Прибалтике и восточной Пруссии. 30 января 1945 года, за считанные дни до победы, в бою у залива Фришес-Хафф погиб Петр Ильич Лизюков, в неравном бою с, пытавшимися прорваться из района Кёнигсберга, танковыми частями фашистов.
Полководческие таланты Александра Ильича Лизюкова дали свои первые ростки в начале Гражданской Войны. В достаточно юном возрасте, он уже занимал довольно высокие посты: Ноябрь 1919г назначен в 58-ю дивизию, 12 армии Юго-западного фронта командиром артиллерийского взвода, Июль 1920г. назначен командиром 11-ой маршевой батареи, Сентябрь 1920г.- назначен начальником артиллерии бронепоезда «Коммунар» № 56, Сентябрь 1921г. командирован в Ленинград, в Высшую автобронетанковую школу. К 1938 году в послужном списке А. И. Лизюкова были: учеба в военной академии им. М. Фрунзе, командование тяжелой танковой бригадой им. Кирова, преподавательская работа в Военной академии механизации и моторизации РККА, осенняя поездка 1935 года в составе военной делегации на маневры во Францию. Там Лизюков ознакомился с новейшими тактическими приемами французских танковых частей. Несмотря на то, что Франция на тот период являлась «законодательницей мод» по применению танков на поле боя, Александр Ильич объективно отметил все сильные и слабые стороны увиденного. Слабых сторон было больше. Основная ошибка сводилась к тому, что танковые части, раздёрганные по фронту, не являлись самостоятельным родом войск, а использовались, как и в Первую Мировую войну, в качестве усиления по сопровождению пехоты. Отсюда достаточно высокий силуэт танка, низкая скорость как последствие тяжелого бронирования, которое очень серьёзно еще влияло и на проходимость боевой машины. Метко подмеченные Лизюковым недостатки уже через несколько лет сыграли с армией Франции злую шутку. Гитлеровские войска на более быстрых, но слабо бронированных танках, на удар которых работала авиация, артиллерия и пехота Вермахта, чуть больше, чем через месяц заставила Францию капитулировать. Генерал-майор танковых войск В. А. Опарин так отозвался о Лизюкове в этот период: «Можно выразиться: от его глаз и ушей ничто важное не ускользало … Очень серьёзно Лизюков занимался вождением. Он смело экспериментировал в этом деле, требовал водить танки на больших скоростях, преодолевав лесные зоны, овраги, гористые участки. И какие замечательные механики- водители были воспитаны». Трудолюбие и самоотдача Лизюкова выдвинули его в ряды лучших молодых командиров РККА. Командование по достоинству оценило ратный труд Александра Ильича, наградив самой высшей наградой страны — «Орденом Ленина». Хотелось бы сказать несколько слов о параде 1936 года на Красной Площади. Снова обратимся к тексту Ивана Афанасьева: «Был феерический — стремительный (по восторженным отзывам очевидцев) — проезд в открытой башне командирского танка по вдруг опустевшей Красной площади… по которой один-единственный танк пронесся «метеором, сгустком энергии, спрессованным в легкий серый параллелограмм»».
Наступивший 1938 год стал трагическим в судьбе Александра Ильича Лизюкова, годом, когда он был арестован по ложному обвинению в участии в антисоветском заговоре и вредительской деятельности, направленной на подрыв боевой мощи РККА. В вину ему вменяли вредительство «путем проведения так называемых экспериментальных прыжков через препятствия». Т. е. его вина, по-иезуитски передёрнутая в это же время, демонстрировалась на всех экранах страны в том же фильме «трактористы», где зрители с замиранием сердца могли наблюдать за этими же самыми танковыми прыжками. Мы не будем разбирать арест и расстрел маршала Тухачевского, это отдельная тема, но знакомство, еще со времен Гражданской войны, с Лизюковым, явилось для последнего отягчающим обстоятельством к обвинению. 22 месяца заключения, из них 17 в одиночной камере, выдержал Лизюков, не оговорив никого и не дав показания ни на кого из своих начальников и подчиненных. 3 декабря 1939 года оправдан приговором военного трибунала Ленинградского Военного Округа с восстановлением в партии, в звании и должности, с возвращением наград. Группа следователей по делу Лизюкова была арестована и понесла суровое наказание. Освобожденные и оправданные по суду в конце 30-х годов представители старшего командования РККА внесли значительный вклад в Великую победу 1945 года
Вместе с сыном Юрием, Александр Ильич отбыл в войска уже на второй день после начала Великой Отечественной войны. 26 июня полковник Лизюков прибыл в город Борисов. Лизюков вступил в должность начальника штаба обороны города, в тот момент, когда гитлеровцы стояли в нескольких километрах от Борисова. На этой должности он находился до 8 июля. Гитлеровцы наступали, но уже чувствовалась пробуксовка «молниеносной войны» (блицкрига). Героически оборонявшиеся и контратакующие, войска Красной Армии вносили изменения в план «Барбаросса». После Борисова Лизюкова назначают комендантом переправ в районе Соловьево-Ратчино. Уже вовсю идёт сражение за Смоленск. Малочисленный, сборный отряд Лизюкова стойко оборонял переправы — единственный путь снабжения 16-й и 20-й армий, сражавшихся под Смоленском. Личный героизм и природная смекалка ввела в заблуждение асов Люфтваффе, пытавшихся разбомбить переправы. По личному приказу Александра Ильича, саперы, сбив кабины на грузовиках, поставили их борт-к-борту, от одного берега к другому, так чтобы водный поток на несколько десятков сантиметров скрыл от воздушного наблюдения этот импровизированный мост. Чтобы понять события тех дней, обратимся к воспоминаниям К. К. Рокоссовского: «Смелость Александра Ильича была безгранична, умение маневрировать, малыми силами — на высоте. Был момент, когда немцы перехватили горловину мешка в районе переправ через Днепр…, подразделения Лизюкова отбросили и уничтожили весь вражеский отряд». А теперь обратимся мемуарам начальника генерального штаба сухопутных войск Германии Франца Гальдера: «2 августа 1941г., 42-й день войны… К сожалению, противнику удалось открыть себе выход на восток. 3 августа… Необходимо, чтобы переправа через Днепр, по которой противник выводит свои войска из кольца окружения, постоянно находилась под воздействием нашей авиации и артиллерии… 6 августа 1941г. 46-й день войны… следует принять во внимание … умение русских скрытно наводить переправы через реки». В это тяжелейшее время рядом с отцом постоянно находился Юрий Лизюков, за те бои он был награжден медалью «За отвагу». Сам же Александр Ильич был представлен к ордену «Красного Знамени». Из наградного листа Лизюкова: «… товарищ Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями, лично проявил мужество и храбрость». Но высшее командование решило по-другому отметить заслуги Александра Ильича: «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5-го августа 1941 года «за образцовое выполнение боевых заданий… и проявленные при этом отвагу и геройство» полковнику Лизюкову А. И. присвоено звание Героя Советского Союза».
После награждения Лизюков принимает командование 1-ой Московской мотострелковой дивизией. В августе 1941 года северо-восточнее города Ярцево на реке Вопь, дивизия занимает жесткую оборону. Активно обороняясь, в сентябре 41-го, Лизюков проводит, силами дивизии, наступательную операцию. Успешные действия 1-ой Московской мотострелковой дивизии позволили выбить немцев с восточного берега и на их плечах, форсировав реку Вопь, создать, а затем расширить плацдарм на противоположном берегу. В течение всего сентября подразделение Лизюкова стойко удерживает занятый плацдарм. Дивизия за этот подвиг получила наименование 1-ой гвардейской мотострелковой. Из письма Александра Ильича к своей жене, скупо, по-военному: «Надо сказать прямо — попало фашистам здорово…». Дивизия Лизюкова, будучи в составе 40-й армии, в сентябре 1941 года принимает участие в Сумско-Харьковской оборонительной операции. Уже к 30 сентября, 1 гвардейская мотострелковая дивизия под командование Александра Ильича разбила 25-ю немецкую моторизованную дивизию в Штеповке. Будучи свидетелем этих боев, П. П. Вершигора пишет: «В районе Сум, впервые за эту войну, я увидел, как бегают немцы». После Штеповки не давая опомниться врагу, части дивизии, двигаясь на запад, освобождают крупный населенный пункт Аполлоновка, захватывая большое число пленных, трофейной техники и вооружения. Сильно поредевшую, в многодневных кровопролитных боях, дивизию Лизюкова выводят в армейский, а затем во фронтовой резерв на отдых и доукомплектование.
На рубеже реки Нара началась для Александра Ильича битва за Москву. В этой схватке бойцы и командиры Лизюкова противостояли дивизиям 4-й армии вермахта, подошедших 21 октября к Наро-Фоминску. Дивизия Лизюкова, усиленная 5-й танковой бригадой под командованием подполковника М. Г. Сахно, остановила дальнейшее продвижение врага. 10 января 1942 года Александру Ильичу Лизюкову присвоено очередное звание генерал-майора, с назначением его на должность командующим 2-м гвардейским корпусом.
Между сражением под Наро-Фоминском и назначением Лизюкова командиром 2-го гвардейского корпуса, остаётся малоизученный историками отрезок времени, где он на новой должности командира оперативной группы, позднее развернутой в 20-ю армию. Командовал армией небезызвестный генерал Власов (позднее перешедший на сторону врага, командующий «русской освободительной армией» в составе вермахта, после войны казнен по приговору военного трибунала). Лизюков занял должность заместителя командующего 20-й армией. Находясь после Киевского «котла» на лечении, Власов только номинально числился командующим армией, продолжалось это до 21 декабря. Всё это время Лизюков де-факто являлся командующим. Иван Николаевич Афанасьев документально доказал, что: «С козой на привязи, и серьёзным воспалением среднего уха в придачу вышел А. А. Власов осенью из Киевского котла. Болезнь ли, нежелание принять ответственность, но Власов появился на фронте, чтобы принять «Лавры спасителя Москвы»». Находясь во главе армии, Лизюков провел блистательные операции по освобождению Волоколамска и Солнечногорска.
Следующий этап в военной судьбе Александра Ильича Лизюкова — это назначение на должность командующего 5-й танковой армией. Несмотря на номер «5», предполагавший создание первых четырех танковых армий, армия Лизюкова на формировании была первой. Опыта по управлению и взаимодействию с другими родами войск у командования новосозданной танковой армии, не было. Армия вступила в бои с противником, не имея штатной численности: недостаток противотанковой артиллерии, неустойчивая связь, малочисленность приданных пехотных подразделений, неотработанная связь с авиацией. Один факт того, что танки КВ собирали в армию по всему фронту, говорит о многом. Недостачу тяжелых и средних танков закрывали легкие Т-60 и Т-70 (танки с автомобильными двигателями, слабой броней, в первом случае на вооружении стояла авиационная пушка, во втором орудие 45мм). Да и поступившие в армию КВ и Т-34 — продукт своего времени, сильно отличавшийся от довоенных образцов. Эвакуированные танковые заводы только начинали обустраивать производство на новых местах, что выражалось в многочисленных нареканиях военных на заводской брак. Нехватка дизельных двигателей В-2 вынуждала устанавливать бензиновые авиационные моторы М-17. Довоенный норматив не ниже 7 часов наезда у механика-водителя танка, летом 42-го ограничивался у них же во многих случаях только теорией вождения.
Между тем, внимание пристальное внимание, которое уделяла Ставка в формировании 5-й танковой армии, говорят записи в «Журнале посещений И. В. Сталина»: 9 апреля 1942г. с 17:20 до 19:00, 19 апреля с 20:05 до 21:50, 20 апреля с 19:25 до 20:00, 23 мая с 23:20 до 01:35- Лизюков у Сталина. Харьковская катастрофа вынудила советское командование преждевременно ввести 5-ю танковую армию в бой. Задача армию Лизюкова возлагалась практически непосильная — задача ударом во фланг немецкой группировки, наступавшей на Воронеж, нанести ей решительное поражение и перехватить военную инициативу. Командование фронтом, затыкая бреши в обороне, раздергало 5-ю танковую армию по частям. Сам Лизюков, подчиняясь приказам, с горечью говорил: «вместо удара кулаком, мы бьем растопыренными пальцами». 6 июля пошел в бой 7-й танковый корпус, 8 июля- 11-й танковый корпус. В бой корпуса шли без должной разведки. Нужно прибавить к вышесказанному следующее — отсутствие полноценной ремонтной базы, недостаток подвижных соединений обеспечения боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Но несмотря на все проблемы, армия сражалась, и сражалась героически.
После недовольства фюрера, которого больше интересовал Сталинград, чем Воронеж, 5 июля 1942 года армейская группа «Вейхс» получила приказ высвобождать подвижные соединения 4-й танковой армии на воронежском направлении для продвижения на юг, согласно плану «Блау». Но отражая контратаки советских танкистов, быстро перебросить свои танки гитлеровцы не смогли, в то же время их оборону плотно сцементировали подошедшие пехотные подразделения. Практически единомоментно соотношение сил кратно изменилось не в пользу нашей армии. Задержку с отправкой своих частей на юг Вейхс оправдывал следующим: «… противник окажется перед всем фронтом — обладателем такой местности, которая обеспечит ему благоприятные условия для танковой атаки в направлении на север-юг. … русские используют свою возможность свободы действия для создания мощного удара по нашему северному флангу…». 10 июля Франц Гальдер пишет в дневнике: «… северный участок фронта Вейхса снова под ударами противника. Смена 9-й и 11-ой танковых дивизий затруднена». От 320 до 370 (в разных источниках) немецких танков не дошли до Сталинграда, оставшись грудой металлолома под Воронежем, но и армия Лизюкова исчерпала свой наступательный потенциал. Не в первый раз после неудачи на фронте, было нужно найти «стрелочника», 15 июля директивой Ставки пришел приказ на расформирование 5-я танковой армии. Александр Ильич Лизюков получил новое назначение с понижением — командиром 2-го танкового корпуса. 23 июля заместитель командующего Юго-Западным фронтом, генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов, в присутствии нескольких офицеров в неудачах фронта обвинил Александра Ильича. «Вы не дали мне нанести удар железным кулаком, заставили вводить армию в бой по частям, так хоть теперь сделайте по-моему — дайте авиацию, иначе все погибнет» — в сердцах произнес Лизюков. Как свидетельствует корреспондент «Комсомольской правды» А. Кривицкий, Чибисов публично обвинил Лизюкова в трусости. А предлогом к столь чудовищному обвинению стало окружение частей 148-й танковой бригады у села Медвежье. Лизюков на своем командирском КВ попытался пробиться на соединение с окруженной частью, чтобы лично, на месте, оценить обстановку и контрударом соединиться с основными силами корпуса. Это был его последний бой. Суматоха, царившая в штабах РККА, зачастую, не позволяла трезво оценить события, но потеря фигуры такой величины, как А. И. Лизюков — командующий пятой танковой армии, вызвала существенный переполох. Место предполагаемой гибели находилось на территории, удерживаемой гитлеровцами. О пропавшем без вести Лизюкове было доложено Сталину, Верховный Главнокомандующий спросил: «Перебежал?». Некоторое время не было никаких сведений о гибели или пленении генерала, молчало и радио Берлина. Из каждого плененного советского военачальника, геббельсовская пропаганда сооружала целую пропагандистскую кампанию, как пример — генерал Власов. По косвенным признакам советское командование сделало вывод о том, что даже немцы не знали, чей танк попал на их засаду. В связи с дальнейшими быстроразвивающимися событиями под Сталинградом и других участках советско-германского фронта, фамилию Лизюкова «забыли».
Только в 2008 г. журналисты телеканала НТВ инициировали журналистское расследование, к ним в руки попало письмо личного водителя генерала — Николая Буткина, погибшего в 1944 г. Он писал, что лично принимал участие в захоронении генерала и указал точное место могилы. Письмо передали руководителю воронежской региональной организации поисковых объединений «Дон» Сегодину Михаилу Михайловичу. По указанным очевидцем ориентирам при поисковых работах на Вахте Памяти, была найдена братская могила. Путём наложения по адресным точкам фото на череп, эксперт, подполковник А. Липецкий, установил, что здесь был погребен Лизюков, генерал-майор, командующий 5-й танковой армией. 7 мая 2009 года останки генерала А. И. Лизюкова были торжественно перезахоронены у памятника Славы в Воронеже. На траурное мероприятие, почтить память великого воина, собрались ветераны Великой Отечественной войны, большая белорусская делегация и тысячи воронежцев.
Воронежская школа № 94, одной из первых (если не первая), в современной истории России получила имя прославленного командарма. В стенах школы уже больше десяти лет работает один из лучших областных музеев учреждений образования.
Литература:
- Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — М.: Воениздат, 1988
- Кривицкий А. Ю. Не забуду вовек. — М.: Воениздат, 1964
- В. А. Жилин. — М.: Яуза, Эксмо, 2008
- Лизюков А. И. «Борьба с бронесилами». — Ленинград: Гос. изд-во. Отд. воен. литературы, 1927
- Лизюков А. И. «Беседа о танках и борьба с ними». — Ленинград: Гос. изд-во. Отд. воен. литературы, 1927
- Лизюков А. И. «Что надо знать воину Красной Армии о боевых приемах немцев». — М.: [б. и.], 1941
- Улица братьев Лизюковых / И. Афанасьев // Родина: российский исторический журнал. — 2009. — № 5. — С. 4–7
- Ф. Гальдер. Военный дневник: ежедневные записи начальника генерального штаба сухопутных войск 1939–1942. — М.: Военное Издательство Министерства Обороны Союза ССР, 1971
- Вершигора П. П. Люди с чистой совестью. — Москва: ДОСААФ, 1980
- Василевский А. М. Дело всей жизни. — М.: Политиздат, 1983
- Симонов К. Живые и мертвые. — М.: Прогресс, 1982
- Катуков М. Е. На острие главного удара. — М.: АСТ, 2003