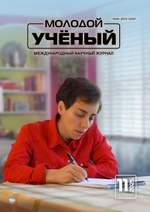В справочной литературе одиночество рассматривается как один из психогенных факторов, оказывающих влияние на эмоциональное состояние и психическое здоровье человека. Основными условиями его проявления являются изоляция, как физическая, так и эмоциональная.
Одиночество связано с переживанием ситуации, которую человек воспринимает как нежелательный и неприятный недостаток общения или недостаток близких, доверительных отношений с окружающими. Оно представляет собой совокупность различных эмоций и чувств, таких как отчаяние, страх, отчуждение, печаль, тревога и прочие. При этом состав и количество этих «составляющих» могут меняться.
Существует целый ряд подходов к рассмотрению феноменологии одиночества. Так, в рамках психодинамического подхода З. Фрейд исследовал взаимосвязь одиночества и страха смерти [1]. Он полагал, что люди боятся не столько самой смерти, сколько одиночества, которое с ней связано. Смерть представляет собой окончание существования нашего сознания. Если бы наш страх был сосредоточен исключительно на этом аспекте, то нам следовало бы бояться ночного сна. Мы испытываем тревогу не из-за потери сознания, а из-за состояния изоляции и одиночества. Нас пугает не сама смерть, а возможность сохранения сознания в полном одиночестве.
Единственным способом избежать одиночества является общение, которое служит взаимным подтверждением нашего существования. Эти формы самоподтверждения необходимы для полноценного функционирования психики, тогда как их отсутствие, т. е. одиночество, вызывает глубокий страх. В детстве на ранних этапах развития ребёнок ощущает единство с окружающим миром, что можно назвать «океаническим чувством». Это является первым этапом формирования Эго, на котором человек не испытывает чувства одиночества. Однако, как только индивидуум осознаёт своё истинное положение, и в зависимости от глубины этого осознания, он становится «безнадёжно» одиноким. В попытках избавиться от этого состояния, человек ищет общение. Если ребёнок с ранних лет окружён исключительно любовью и заботой, процесс формирования Эго может остаться незавершённым, что приводит к возникновению нарциссической личности. Такие люди испытывают трудности в полноценном взаимодействии и, как следствие, сильно страдают от одиночества.
Таким образом, можно заключить, что З. Фрейд исследовал одиночество не как отдельный феномен, а в контексте страха смерти и процесса формирования Эго. Страх одиночества в целом выполняет положительную функцию, побуждая людей к общению. В конечном итоге, одиночество может служить объединяющим фактором для общества в целом.
Б. Миюскович высказывал схожие идеи. Одиночество представляет собой феномен, присущий сознанию, однако мы одиноки не всегда, если существует альтернатива в виде общности (дружбы, любви). Во времена, когда мы испытываем дружеские или любовные чувства, одиночество не ощущается, но в то же время создает условия для дальнейших отношений дружбы и любви.
Согласно Б. Миюсковичу, корень одиночества заложен в самой природе человека. Люди действительно испытывают одиночество, хотя не всегда осознают его. Исследователь рассматривает одиночество как то, чего на самом деле боятся люди, аналогично страху перед смертью. «Мы боимся осознания «небытия», сознания нашего индивидуального одиночества, изоляции, не отражающейся в теплых чувствах и «рефлексивном свете» другого сознательного существа» [2, с. 63].
Дж. Ховард утверждает, что человек является единственным самосознающим существом в животном мире. В этом контексте он испытывает одиночество. Поэтому человек стремится разрушить эту изоляцию, стремясь к объединению. Он либо пытается «впитать» в себя другого, либо стремится выйти за свои собственные границы. Однако ни одно из этих стремлений не может быть полностью реализовано. Таким образом, на протяжении жизни мы через общение, прикосновения, самовыражение и действия вне себя стремимся к соединению, чтобы преодолеть собственные пределы и избежать одиночества [3].
Э. Фромм описывал моральное одиночество как неспособность индивидов устанавливать связи не только с окружающими, но и ценностями и идеалами в целом [4]. Достигнув стадии индивидуального сознания и определив своё уникальное самоощущение, человек внезапно осознаёт своё полное одиночество. Он не способен в полной мере принять ценности, идеалы и внутренний мир других людей. Следовательно, возникает проблема: с одной стороны, человек испытывает одиночество, что, в свою очередь порождает тревожность. В результате начинает обратный путь — стремление к общению, который, однако, оказывается недостижимым. Все внешние интересы представляют собой попытку избежать неизбежного одиночества. У каждого индивида в ходе жизни формируется уникальная стратегия ухода, закрепляющая в его характере.
Поэтому Э. Фромм выделяет следующие типы характеров:
1) садист («вбирает» в себя личности других: они для него и не являются личностями, скорее становятся частями собственного «Я»);
2) мазохист (включает в себе другого. Входит составной частью в потребности, интересы другого. Живёт в постоянном одиночестве);
3) конформист (сливается со всеми, некритично разделяет все желания и мнения группы. Полностью теряет самоидентичность) [4].
Данные способы ухода от одиночества неэффективны, поскольку они подрывают самосознание и разрушают индивидуальность и самоидентичность. Более конструктивными подходами к осмыслению страха, связанного с одиночеством, могут стать развитие чувства общности, что предполагает установление связей с другими людьми, в частности, через дружбу и любовь.
Ещё одна, очень схожая с предыдущими, концепция принадлежит М. Буберу [5]. По его мнению, спасаясь от постоянной тревожности и страха, человек бежит в индивидуализм или в коллективизм. В первом случае обесценивается существование других. Во втором ответственность заменяется коллективной. Коллектив обеспечивает тотальную безопасность (господствует только внешняя реальность). Но это только иллюзия, избавления от одиночества, так как коллектив не обеспечивает истинной близости. Лишь постигнув индивидуальность другого человека, человек способен преодолеть собственное одиночество. Это возможно только после «потрясения встречи» с другим лицом. В коллективе же индивидуум отказывается от своей сущности, не имея возможности установить подлинный контакт с другим, поскольку истинные отношения могут возникнуть лишь между подлинными личностями. В характерах тех, кто предпочел указанные два способа побега, формируется бунт, который проявляется в чувстве одиночества. Третий путь, по мнению М. Бубера, представляет собой пространство «между». Это пространство постоянно реконструируется. Оно является моментом подлинной близости, мимолетным мгновением искреннего диалога.
Еще один представитель данного подхода — Дж. Зилбург [6]. Он проводил различие между одиночеством и уединением. Уединение представляет собой «нормальное» и «временное» эмоциональное состояние, возникающее из-за отсутствия конкретного человека. Одиночество же является глубоким и постоянным чувством, отражает ключевые черты личности, такие как нарциссизм, мания величия и враждебность. Одинокий человек сохраняет инфантильное ощущение своего всемогущества, проявляя эгоцентризм и пытаясь «обличить» окружающих, демонстрирует болезненную скрытность или открытую враждебность», направленную как внутрь себя, так и на окружающих.
Г. С. Саливан [7] считал основной движущей силой психического развития «потребность в человеческой близости». На каждом этапе развития формируются определенные компоненты человеческих взаимоотношений, а нарушение этого процесса может привести к различным отклонениям в личности, включая одиночество. Корни одиночества могут уходить глубоко в детство. Потребность в человеческой близости первоначально проявляется в стремлении ребенка к установлению контакта. У подростков, страдающих от недостатка социальных навыков из-за неудачных отношений с родителями в детстве, часто возникают трудности в установлении дружеских связей со сверстниками. Неспособность удовлетворить эту потребность в близости может привести к глубокому ощущению одиночества. Испытанное в этом возрасте одиночество часто закрепляется и становится характерным для этого человека чувством.
Таким образом, все концепции данной области рассматривают одиночество как следствие ранних воздействий на развитие личности ребенка. В определении факторов, способствующих возникновению одиночества в будущем, особое внимание уделяется внутриличностным характеристикам, таким как развитие самосознания и особенности характера.
По мнению К. Р. Роджерса [8], представителя феноменологического направления, общество заставляет индивида действовать в соответствии с установленными нормами, идеалами и образцами поведения. Эти социальные влияния зачастую противоречат «истинному Я» личности, что создает конфликт между «истинным Я» и «Я в глазах других». Убежденность в том, что «истинное Я» будет отвергнуто, приводит к чувству одиночества. Чтобы избежать этого, такие люди стремятся подавить свои истинные чувства, принимая на себя социальные роли. Однако это может привести к отчуждению «истинного Я», его утрате и ощущению внутренней пустоты. Таким образом, данная концепция рассматривает одиночество как следствие внутренней дисгармонии личности.
В контексте экзистенционально-гуманистического подхода одиночество рассматривается как источник творческой энергии и возможность для саморефлексии. К. Мустакас утверждает, что такая самовстреча предоставляет личности множество преимуществ: способствует самопознанию, пониманию других, позволяет увидеть ситуацию под новым углом, переоценить свои ценности и найти смысл своего существования. Это состояние открывает путь к освобождению от привычных моделей поведения и к истинной самореализации. К. Мустакас называет такое одиночество «истинным», поскольку оно проявляется в критических жизненных моментах, таких как рождение, смерть или значимые переживания. Одиночество является неотъемлемой частью человеческой жизни, хотя осознание этого факта происходит не всегда. Тем не менее, те редкие моменты осознания необходимо уметь использовать максимально эффективно. К. Мустакас акцентирует внимание на том, что можно научиться справляться с этим состоянием, преодолев свой страх перед ним [9].
В социологических теориях выказывается идея о том, что одиночество — продукт социальных сил, источники одиночества каждой личности лежат вовне, в обществе (З. Баумен, Д. Рисмен, Ф. Слейтер и др.). Так, З. Баумен [10] считает, что роль близких межличностных контактов постепенно ослабевает, а отношения становятся все более деперсонализированными и формализованными. Потребности индивидов в общении, сопричастности, зависимости и доверии к другим, а также в получении этого доверия, остаются неудовлетворенными в современном обществе. В результате формируются защитные механизмы, проявляющиеся в стремлении отвергать реальность человеческой взаимозависимости. Таким образом, каждый человек в современном обществе, так или иначе, в большей или меньшей степени подвергается неврозу, одним из проявлений которого является чувство одиночества.
Интеракционистический подход (Р. С. Вейс и др.). Одиночество можно рассматривать как естественную реакцию на комбинированное и интерактивное воздействие личностных факторов и окружающей среды. В зависимости от преобладания определённого компонента выделяются следующие типы одиночества:
— Эмоциональное одиночество. Этот тип возникает при нормальном уровне социальных связей, однако человек не ощущает близкой интимной привязанности. Это состояние часто вызывает беспокойство, напоминающее переживания покинутого ребенка, а также тревогу и чувство пустоты. Причины такого одиночества коренятся в личных качествах индивида, затрудняющих установление глубокого эмоционального контакта, однако важно также учитывать влияние окружающей среды, например, отсутствие человека, с которым можно было бы наладить такой контакт.
— Социальное одиночество. Социальные факторы здесь играют значительную роль. Недостаток дружеских связей или чувства принадлежности к своей микрогруппе, а также низкий уровень социальных контактов приводят к социальной изоляции. Этот вид одиночества часто проявляется в ощущении ненужности, маргинальности и тоски.
Согласно данной концепции, одиночество воспринимается как нормальная реакция, где ключевым фактором являются актуальные события [11].
Наиболее заметной чертой когнитивного подхода (Э. Пепло и др.) является акцент на значении познания как фактора, который посредничает в связи между недостатком социального взаимодействия и ощущением одиночества. Когнитивный подход предполагает, что одиночество возникает, когда индивиду становится очевидным несоответствие между желаемым и реально достигнутым уровнем социальных контактов [12].
В рамках интимного подхода для истолкования одиночества используются понятия «интимность» и «самораскрытие». В. Дж. Дерлега и С. Т. Маргулис [13], полагают, что социальные отношения, способствуют достижению индивидом различных реальных целей. Одиночество же обусловлено отсутствием соответствующего социального партнера, который мог бы способствовать достижению этих целей. Одиночество, вероятнее всего, наступает тогда, когда межличностным отношениям индивида не достает интимности, необходимой для доверительного общения.
Интимный подход основывается на предпосылке, что индивид стремится поддерживать баланс между желаемым и реальным уровнем социальных взаимодействий. В. Дж. Дерлега и С. Т. Маргулис воспринимают одиночество как нормальный опыт в условиях повсеместной атомизации общества. Их фокус на непрерывном процессе балансировки между желаемым и достигнутым уровнем социальных контактов подчеркивает актуальные детерминанты одиночества. Тем не менее, их позиция допускает влияние предыдущего опыта на данное состояние. Исследователи утверждают, что как внутренние, так и внешние факторы могут способствовать возникновению одиночества.
В рамках общесистемного подхода Дж. П. Фландерс [14] определяет одиночество как механизм обратной связи, который помогает индивиду или обществу поддерживать оптимальный уровень человеческих взаимодействий. Дж. П. Фландерс рассматривает одиночество как потенциально патологическое состояние, однако также подчеркивает его роль как полезного механизма обратной связи, который в итоге может способствовать благополучию как индивида, так и общества. Системная теория объединяет оба мотива поведения — индивидуальный и ситуативный.
Таким образом, можно выделить следующие основные подходы к рассмотрению одиночества:
— психодинамический: одиночество — патология, которую определяют внешние условия (Б. Бубер, Дж. Зилбург, Б. Миюскович, З. Фрейд, Э. Фромм, Дж. Ховард);
— феноменологический: одиночество — конфликт между «истинным» и «социально желательным» Я, проявление слабой приспособляемости личности (К. Роджерс);
— экзистенционально-гуманистический: истоки одиночества — в самой природе человека, люди изначально одиноки; нужно преодолеть страх одиночества и научиться позитивно его использовать (К. Мустакас);
— социологический: одиночество расценивается как нормативное состояние, общий статистический показатель, характеризующий общество (З. Боумен, Д. Рисмен, Ф. Слейтери др.);
— интеракционистический: одиночество — естественная реакция на сочетание личностных факторов и окружающей среды; эмоциональное одиночество возникает при недостатке интимной привязанности, социальное одиночество вызвано нехваткой дружеских связей и принадлежности к группе (Р. С. Вейс и др.);
— когнитивный: одиночество — результат осознания индивидом несоответствия между желаемым и реально достигнутым уровнем социальных контактов (Э. Пепо);
— интимный: одиночество — нормальный опыт в атоматизированном обществе, где как внутренние, так и внешние факторы могут способствовать его возникновению (В. Дж. Дерлега и С. Т. Маргулис);
— теоретико-системный: одиночество — механизм обратной связи, способствующий поддержанию оптимальных человеческих взаимодействий и благополучию индивида и общества (Дж. П. Фландерс).
Литература:
- Фрейд, З. Введение в психоанализ: Лекции / З. Фрейд. — М.: Наука, 1989. — 456 с.
- Миюскович. Б. Одиночество: междисциплинарный подход / Б. Миюскович // Лабиринты одиночества — М.: Прогресс, 1989. — C. 52–88.
- Howard, J. А. The flesh-colored cage: The impact of mап's essепtiаl аlопепеss оп his attitudes апd behavior / J. А. Howard. — New York: Наwthоrn,1975. — 250 p.
- Фромм, Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Э. Фромм. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. — 571 с.
- Бубер, М. Проблема человека. Перспективы / М. Бубер // Лабиринты одиночества / Под ред. Н. Е. Покровского. — М.: Прогресс, 1989. — С. 88–97.
- Zilboorg, G. Loneliness / G. Zilboorg // AtlanticМоnthly. — 1938, January. — Р. 45–54.
- Саливан, С. Г. Интерперсональная теория в психиатрии / С. Г. Саливан. — М.: КСП+; СПб.: Ювента, 1999. — 345 с.
- Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — 479 с.
- Moustakas, С. Е. Portraits of loneliness and love. Englewood Cliffs / С. Е. Moustakas. — N. J.: Prentice-Hall, 1972. — 166 p.
- Bowman, С. С. Lonelinessand socia1 change / C. C. Bowman // American Journal of Psychiatry. — № 112. — P. 194–198.
- Вейс, Р. С. Вопросы изучения одиночества / Р. С. Вейс // Лабиринты одиночества / Под ред. Н. Е. Покровского. — М.: Прогресс, 1989. — С. 114–128.
- Пепло, Л. Э. Одиночество и самооценка / Л. Э. Пепло, М. Мицели, Б. Мораш // Лабиринты одиночества / Под ред. Н. Е. Покровского. — М.: Прогресс, 1989. — С. 169–191.
- Derlega, У.J. &MargulisS. Т. Why loneliness occuгs: the interrelationship of social-psychological and рrivасу concepts / У. J. Derlega, S. Т. Margulis // Loneliness. А Souгcebook of Current Theory, Research and Therapy. Ed. L. А. Peplau&О. Perlman. А Wiley-Interscience PubIication. John Wiley&Sons, 1982. — P. 152–166.
- Flanders, J. P. А general Systems approach to loneliness / J. P. Flanders // Loneliness. А Souгcebook of Current Theory, Research and Therapy. Ed. L. А. Peplau&О. Perlman. А Wiley-Interscience PubIication. John Wiley&Sons, 1982. — P. 166–179.