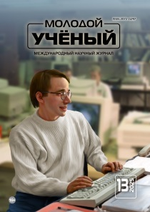Представлен анализ динамики восприятия М. Ю. Лермонтовым творчества Дж. Г. Байрона. Рассматривается эволюция от романтического увлечения Байроном к утверждению собственной творческой идентичности («Нет, я не Байрон, я другой»). Приводится сравнение мировоззренческих позиций двух поэтов и отмечается, что Лермонтов воспринимал Байрона не только как литературный образец, но и как жизненный идеал, что отразилось как в его творчестве, так и в его поведении.
Ключевые слова: русский романтизм, байронизм, романтический герой, русско-английские литературные связи, лишний человек.
Байронизм — сложное историко-литературное явление, которое охватывает не только ореол личности и творчества Дж. Г. Байрона, но и целый комплекс тем, мотивов, образов, поэтикальных решений, оказавшихся не только в английской литературе, но и в других литературах. Увлечение поэзией Дж. Г. Байрона, распространение в европейской культуре начала XIX века его идей и эстетических принципов стало одним из факторов формирования национальных вариантов романтизма. Влияние байронизма на славянские литературы было как прямым (от английской литературы непосредственно к другим литературам), так и опосредованным (через посредничество других литератур).
В 1820–1830-х годах мотивы Дж. Г. Байрона в России популяризировали В. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и др. поэты-романтики.
Образ байронического героя и мотивирующий комплекс «мировой скорби» находим в произведениях М. Лермонтова (лирические стихи, поэмы «Мцыри», «Демон», роман «Герой нашего времени»).
Влиянию Байрона на формирование творческой индивидуальности М. Ю. Лермонтова посвящены работы В. П. Воробьева, В. А. Архипова, С. В. Иванова, Л. В. Гинзбург, М. Нольмана, Б. М. Эйхенбаума, А. Глассе, Ю. В. Люсовой.
Центральным для нашего исследования является понятие рецепции. Н. Н. Левакин дает следующее определение данному художественному приему, который становится основой миросозерцания поэтов: ««сознательное заимствование идей, мотивов, берущихся за образец, с целью поставить его на службу собственным эстетическим и этическим интересам» [6, с. 308–310].
Критики-современники Лермонтова, а также современные критики (В. Воробьев, Л. Мысовских) говорят о байронизме как миросозерцании Лермонтова, его постоянном желании сравнивать себя с Байроном, наследовать его, строить свою жизнь по образцу кумира, но также они свидетельствуют и об усталости, разочаровании в Байроне и поиске новых путей. Важно одно: Лермонтов точно воспринимал Байрона эмоционально.
Интересна в отношении определения мотивов М. Лермонтова идея Л. О. Мысовских, который отмечает амбивалентность поэзии М. Лермонтова, называя эту особенность «небайронизмом» [6, с. 308].
Критики рассматривают рецепцию идей и образов Байрона в творчестве М. Лермонтова в развитии, так как поэзия проходит этапы становления от романтического увлечения как личностью Байрона, так и его стихами до творческого самоопределения поэта в стихотворении «Нет, я не Байрон, я другой». В этом состоит творческое кредо поэта, обозначение «своей собственной уникальной экзистенции, иной ситуации и признания независимости своей личности», поиск собственного пути на литературном поприще [5, с. 124].
В. М. Жирмунский считает, что ключевое отличие Лермонтова и Байрона в том, что Байрон считает себя выше общества, а потому отделяет себя от него, тогда как Лермонтов не принят обществом, потому вынужден уйти [3, с. 94]. В то же время стихотворение является пророческим, так как лирический герой предвидит раннюю гибель, что считалось единственно верным концом для романтика.
Важно подчеркнуть, что М. Лермонтов познакомился с творчеством Байрона, согласно исследованиям критиков, приблизительно в 1827 году и во многом стал его последователем не только в творчестве, но и в жизни, в частности, желал подражать ему поведенчески, в выборе стиля и образов, в восприятии опасностей, игре с судьбой. «Герой нашего времени» Печорин во многом списан с Байрона, особенно это проявляется в главе «Фаталист».
Б. М. Эйхенбаум писал: «Причина особенного увлечения Лермонтова Байроном была вне литературы — Байрон был для него идеалом «великого человека» [8 с. 14].
О. С. Пугачев отмечает тот факт, что М. Лермонтов пытался подражать Байрону всей своей жизнью, апофеозом чего послужила дуэль с Мартыновым, однако, как поэт он подражал Байрону лишь на раннем этапе своего творчества, тогда как более зрелые стихи и поэмы отличаются. В частности, критики видят в творчестве Лермонтова более глубокое чувство природы, более широкую объективность, более глубокий психологизм, простой язык и синтаксис. Ещё одним важным замечанием становится амбивалентность позиции поэта, проявленная в том, что М. Лермонтов создает героев, в которых наличествуют как положительные, так и отрицательные качества, они неоднозначны, тогда как байронические герои чаще целиком отрицательны.
Восточные поэмы и лирика Дж. Г. Байрона этих лет, полны настроений отчаяния и мировой войны, идущей от шекспировского «Гамлета». Все это было результатом разочарования в политической деятельности, его духовного одиночества, унылых размышлений над торжеством реальных сил в Европе. Образцом структурной и образной системы, конфликтов и центральных фигур «восточных поэм» стали лиро-эпические поэмы «Гяур» и «Корсар» Дж. Г. Байрона [3, с. 45].
В центре лиро-эпических поэм «Гяур» и «Корсар» Дж. Байрона стоит одинокая, гордая личность, которая противопоставляет себя человеческому обществу. Дж. Г. Байрон в своих главных героях подчеркивает одну чрезвычайно характерную черту — мятежный Конрад и мстительный Гяур. Гяур не приемлет рабства, его угнетает положение, в котором оказалась родина. В восточных поэмах воспроизведены персонажи вроде Чайльд-Гарольда, которых он характеризует как злобных, таинственных, с нечистой совестью, гордых, как и сам их автор. Они не любят жизнь и не боятся смерти. В душе они фаталисты, ищут смерти и одиночества, но умеют пробуждать любовь в других [5, с. 61–62].
Юный М. Лермонтов создает собственную поэму под названием «Корсар», однако у литературоведов нет однозначного мнения, был ли на тот момент автор знаком с одноименным произведением Байрона или же в его поэме проявились ключевые романтические мотивы.
Однако как сюжеты, так и композиция произведений схожи: действие происходит на греческих островах, которые находятся под властью турков, поэмы состоят из трех частей, в центре сюжетов — подвиги корсаров, которые нападают на турецкие корабли. В обеих поэмах есть намеки на любовь между главным героем-корсаром и турчанкой-пленницей. Корсары в обоих произведениях являются типичными романтическими героями: они одиноки, отчуждены от общества, сильны духом, горделивы, способны на любовь и сострадание. В обоих поэмах герои являются мятежниками.
Однако М. Лермонтов создает собственного корсара, лишь отчасти следуя романтической традиции Байрона. В. П. Воробьев отмечает отличия уже на уровне организации текста: Лермонтов пишет более сжато, использует женскую рифму, произведение не является столь динамическим и однозначным. В поэме Байрона повествование ведется от третьего лица, тогда как в поэме Лермонтова — от первого [1, с. 108].
Характер корсара Лермонтова так же сильно отличается от характера Конрада, как и формальные признаки произведений, которые их изображают. Конрад Байрона — прежде всего, герой — мятежник, трагическая фигура, бунтарский дух, тогда как Конрад Лермонтова жалок, растерян, что автор подчеркивает тем, что его герой — не капитан, не предводитель, а лишь один из банды
А. Глассе цитирует строчки Лермонтова: «Всё говорило мне, что радость / Навеки здесь погребена», подчеркивая тот факт, что Конрад разочарован в жизни и потому ищет смерти [3, с. 137].
Даже после того, как он вступил в полную приключений пиратскую жизнь, он признается, что грустил, томился, лил слезы, вспоминая свое идиллическое детство, теперь навсегда потерянное. Он проклинает судьбу за то, что она заставила его уничтожить «почти всё то, что [он] любил» [3, с. 138].
Так, исследователи творчества М. Лермонтова склоняются к тому, что М. Лермонтов создает на примере байронического героя нового корсара, он лишает свою поэму динамизма, возвышенного трагизма, а также наполняет ее другими моральными ориентирами персонажа. Если байронический герой, несмотря на тысячи злодейств, добродетелен внутри, а злодейства творит вынужденно, защищая честь, правду, народ, то есть человеческие идеалы, то герой Лермонтова, по мнению В. Воробьева, лишен этих моральных ориентиров, он устал и бежит от себя. Именно усталость, разочарование в романтизме и высших целях, которые обозначал Байрон подчеркнуты в поэзии Лермонтова [1, с. 82–84].
Ю. В. Люсова отмечает, что «Герой нашего времени», хотя и признан реалистическим романом, попадает под влияние Байрона, потому имеет яркие романтические черты. Печорин — герой-бунтарь, который играет с судьбой. Однако в отличие от скучающего и презирающего общество Байрона и его героев, Печорин желает любви и понимания, но не принят обществом. Также Ю. В. Люсова указывает на такие черты байронизма как меланхолию, сплин, который вынуждает героя к бегству: «Через месяц я так привык к их(пуль) жужжанию, что не обращал больше внимания. И мне стало скучнее прежнего» [5, с. 24].
Однако без Байрона не было бы поисков собственного пути, потому мы приходим к выводу, что байронизм Лермонтова послужил творческим толчком, который создал личность поэта. Лермонтов не стал только последователем Байрона, он заявил о себе как об уникальной личности.
Общими для творчества обоих поэтов становятся мотивы изгнанничества, свободы, гибели, мятежа. Личность в поэзии как Лермонтова, так и Байрона развивается и осознает себя в конфликте и с Богом, и с обществом, и с самим собой.
Литература:
- Воробьев В. П. Лермонтов и Байрон/В. П. Воробьев, — М., 2009. — 237 с.
- Глассе А. Лермонтов и Е. А. Сушкова // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы/ А.Глассе, — Л., Наука,1979. — 321 с.
- Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин/ В. М. Жирмунский, Л., 1978. — 425 с.
- Левакин Н. Н. Художественная рецепция как литературоведческое понятие (к вопросу понимания термина) // Известия ПГЛУ им. В. Г. Белинского, 2012. № 27. С. 308–310.
- Люсова Ю. В. Рецепция Д. Г. Байрона в России 1810–1830 гг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук/ Моск. Пед.гос.ун-т. Н.Новгород, 2006. — С.24.
- Мысовских Л. О. Экзистенциальная амбивалентность юного Лермонтова: Байрон или другой? // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. Том 9. № 1 (33). С. 58- 77. https://doi.org/10.21684/2411–197X-2023–9–1–58–77
- Пугачёв О. С. Нравственные миры М. Ю. Лермонтова. Пенза: РИО ПГСХА. 2014. — 286 с.
- Эйхенбаум Б. М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки. Л.: Гос. изд-во. 1924–168 с.