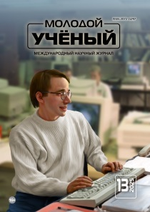В статье авторы рассматривают проблемы психологического сопровождения следственных действий с участием несовершеннолетних. Анализируется современное состояние правового регулирования и правоприменительной практики в данной сфере. На примере резонансных уголовных дел последних лет показаны типичные ошибки и недостатки в работе следователей с детьми и подростками. Обосновывается необходимость коренного пересмотра существующих подходов, активного внедрения в следственную практику достижений юридической психологии, педагогики, криминологии.
Ключевые слова: несовершеннолетние, следственные действия, допрос, уголовное судопроизводство, психологическое сопровождение, правовые гарантии, тактика следствия, деформация личности, психотравма.
В современных условиях проблема преступности несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних приобретает особую остроту и актуальность. Статистика последних лет свидетельствует о расширении масштабов и нарастании степени общественной опасности криминальных деяний несовершеннолетних [4]. При этом и сами подростки все чаще становятся жертвами противоправных посягательств, испытывая на себе всю глубину жестокости и цинизма преступного мира.
Так, по данным Следственного комитета РФ, в 2022 году каждое 28-е раскрытое преступление было совершено несовершеннолетними или при их соучастии [12]. В структуре подростковой преступности неуклонно растет доля тяжких и особо тяжких преступных деяний, в том числе убийств, разбойных нападений, изнасилований. Жестокость, дерзость, вопиющее пренебрежение к элементарным правилам человеческого общежития становятся печальной визитной карточкой современной молодежной криминальной среды.
Не менее тревожная картина складывается и в сфере преступных посягательств в отношении детей и подростков. По экспертным оценкам, реальный уровень криминальной деятельности несовершеннолетних в 5–6 раз превышает ее официально регистрируемые показатели [11]. И в данном случае речь идет о самых чудовищных проявлениях насилия и жестокости — сексуальных преступлениях, вовлечении в преступную деятельность, похищениях, торговле детьми.
В этих условиях эффективное и своевременное противодействие преступности несовершеннолетних становится одной из приоритетных задач государства и общества. Однако, успех в этом деле невозможен без глубокого и всестороннего изучения социальных, психологических и правовых аспектов данного феномена. И здесь особую значимость приобретает анализ проблем, возникающих при проведении следственных действий с участием несовершеннолетних — как подозреваемых, обвиняемых, так и потерпевших и свидетелей.
Прежде всего, следует отметить, что само вовлечение ребенка в орбиту уголовного судопроизводства является мощным стрессогенным фактором, способным оказать крайне негативное воздействие на неокрепшую детскую психику. Формальная обстановка, жесткие процессуальные рамки, необходимость вновь и вновь возвращаться к обстоятельствам совершенного преступления — все это тяжелым грузом ложится на плечи юных участников уголовного процесса [2].
Этот психотравмирующий эффект многократно усиливается, когда речь идет о несовершеннолетних потерпевших: жертвах сексуального насилия, физической жестокости, других тяжких преступлений.
Страх, стыд, чувство вины, переживание собственной «испорченности» — это далеко не все, но часто наиболее типичные состояния детей, переживших надругательство и издевательства [9]. В таких ситуациях крайне важно максимально бережное, тактичное отношение при проведение следственных действий несовершеннолетнего.
К сожалению, реалии нашей правоприменительной практики пока далеки от идеалов чуткости и взаимопонимания. Многочисленные факты свидетельствуют о серьезных упущениях в работе следователей при проведении допросов, очных ставок, иных процессуальных действий с участием детей и подростков. Нередко игнорируются элементарные процессуальные гарантии, в частности, право ребенка на помощь психолога, щадящий режим проведения следственных действий.
Весьма показательна в этом плане ситуация, сложившаяся при расследовании резонансного дела «скопинского маньяка» Виктора Мохова, длительное время удерживавшего в сексуальном рабстве двух девочек-подростков. Как впоследствии рассказывали сами потерпевшие, многочасовые допросы без участия психологов, грубое и бесцеремонное поведение отдельных следователей стали для них настоящим испытанием, едва ли не более страшным, чем сами преступные действия Мохова [3].
Схожие упущения были выявлены и при анализе материалов дела Олега Белова, зверски убившего свою жену и шестерых малолетних детей. Вопреки требованиям закона, допросы единственной выжившей дочери Беловых проводились без участия педагогов и психологов, в ночное время, с грубейшими нарушениями процессуальных норм. Ребенок, единственный выживший после трагедии, вынужден был в течение многих часов раз за разом переживать вновь весь ужаc, который с ним произошел.
Одним из примеров нарушения процессуальных норм является случай неправомерного психологического давления на несовершеннолетнюю в ходе расследования громкого «Ульяновского дела» об изнасиловании девочки, в котором в качестве обвиняемых проходили сыновья высокопоставленных региональных чиновников. Потерпевшая подверглась жесткому прессингу со стороны следователей, фактически понуждавших ее изменить показания. Лишь после вмешательства уполномоченного по правам ребенка и широкой огласки в СМИ девочка смогла добиться реального объективного расследования [14].
Все эти примеры говорят о далеко не единичных и вопиющих нарушениях прав несовершеннолетних при производстве современного следствия.
Причины сложившегося положения многообразны — это и несовершенство правовой базы, и недостаточная подготовленность следователей.
Представляется, что приоритетными направлениями оптимизации следственной работы с несовершеннолетними должны стать:
- Дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства в части регламентации следственных действий с участием несовершеннолетних. Здесь необходимы четкие и недвусмысленные нормы, закрепляющие особый статус ребенка, приоритет его прав и интересов, недопустимость травмирующих психику процедур, обязательное участие специалистов-психологов.
- Коренной пересмотр системы профессиональной подготовки следователей, включение в нее обширного психолого-педагогического компонента. Каждый сотрудник, работающий с несовершеннолетними, должен не только досконально знать правовые нормы, но и владеть специальными методиками коммуникации, уметь устанавливать контакт с подростками, распознавать признаки психологического неблагополучия.
- Формирование специализированных следственных подразделений по расследованию преступлений с участием несовершеннолетних. В таких подразделениях должны трудиться наиболее опытные, психологически устойчивые и нравственно зрелые сотрудники, способные обеспечить подлинную защиту прав и интересов ребенка даже в самых сложных ситуациях.
- Тесное взаимодействие следственных органов с психологическими службами, социальными работниками, представителями педагогической общественности. Такое взаимодействие позволит минимизировать травмирующее воздействие следственных действий, окажет несовершеннолетнему столь необходимую моральную поддержку, послужит его дальнейшей успешной ресоциализации.
Особого упоминания заслуживает проблема реабилитации детей — жертв и свидетелей тяжких преступлений. Сегодня эта работа носит эпизодический и несистемный характер, зачастую сводится лишь к единоразовым беседам с психологом. Между тем, последствия психологических травм, пережитых в ходе следственных действий, могут давать о себе знать годами, становясь фундаментом для дальнейших личностных и поведенческих девиаций [1].
В этом контексте крайне важно наладить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого несовершеннолетнего, вовлеченного в орбиту уголовного судопроизводства, обеспечить преемственность реабилитационных мероприятий.
Разумеется, реализация всех этих мер невозможна в одночасье — проблема носит системный характер, копившиеся десятилетиями. Многие из них связаны с общим несовершенством отечественной правоохранительной системы, дефицитом правовой культуры, недооценкой роли психологических аспектов в деятельности следствия и дознания [17].
Работа следователя с несовершеннолетними правонарушителями представляет собой не только юридическую обязанность, но и инструмент социальной реабилитации, что позволяет запустить механизмы позитивных личностных трансформаций [10]. Грамотное проведение допроса или очной ставки может стать для подростка первым опытом неосуждающего, понимающего отношения со стороны взрослого, первым стимулом к переосмыслению своего криминального поведения.
Но для этого сам следователь должен быть не просто «говорящей униформой», формально исполняющей предписанные законом процедуры, а зрелой, психологически компетентной личностью, способной выстроить диалог, пробудить в несовершеннолетнем правонарушителе лучшие человеческие качества. Собственно, в этом и состоит высший смысл и предназначение следствия и правосудия — не сломать и покарать, но понять и помочь, направить на путь исправления.
Для этого необходимы усилия на самых разных направлениях — от концептуальной проработки самой идеи дружественного к ребенку правосудия до методического обеспечения конкретных следственных действий, обучения и переподготовки кадров [8].
Важнейшим условием успеха является и активное вовлечение в эту работу институтов гражданского общества — правозащитных организаций, СМИ, ассоциаций психологов и педагогов. Только в тесном партнерстве государства и социума можно рассчитывать на реальные подвижки в столь тонкой и деликатной сфере [16].
Ведь что такое по сути своей ребенок, переживший жестокое и бездушное обращение в ходе расследования? Это глубоко травмированная личность, утратившая базовое доверие к миру взрослых, сомневающаяся в самой способности государства и общества обеспечить защиту своих прав. А значит — потенциальный кандидат на социальную дезадаптацию, маргинализацию, уход в криминальную среду.
И напротив, несовершеннолетний, окруженный в ходе следственных действий атмосферой участия, понимания, искреннего стремления разобраться и помочь, получает мощнейший импульс к позитивному развитию. Даже пройдя через этапы уголовного процесса, он сохраняет веру в торжество справедливости, в свое право на защиту и поддержку со стороны взрослых. А значит — имеет все шансы стать полноценным гражданином, ответственным членом общества.
Ситуация осложняется и тем, что сами несовершеннолетние в силу специфики возраста и социального статуса зачастую просто не могут в полной мере отстаивать свои права, сигнализировать о нарушениях и злоупотреблениях [6]. В отличие от взрослых обвиняемых, они, как правило, лишены возможности обратиться в СМИ, правозащитные организации, депутатам и общественным деятелям. И это еще больше повышает ответственность следователя, его роль как своего рода гаранта законности и справедливости.
В этой связи трудно переоценить значимость таких личностных качеств следователя, как развитая эмпатия, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Его умение выстроить психологический контакт с подростком, внимательно выслушать, вникнуть в его проблемы порой оказывается важнее самой скрупулезной процессуальной точности [7].
Здесь мы подходим к еще одному болезненному и во многом табуированному аспекту проблемы — необходимости преодоления обвинительного уклона в деятельности следственных органов. Увы, но именно презумпция виновности подследственных, особенно несовершеннолетних, все еще остается доминирующим принципом нашей правоохранительной системы [5]. И оборотной стороной этого нередко становятся нарушения прав и законных интересов детей в ходе расследования.
Стремясь любыми средствами получить признательные показания, иные изобличающие доказательства, следователи порой идут на прямые нарушения процессуальных норм, применяют недозволенные методы психологического воздействия. И хотя действующее законодательство содержит целый ряд правовых гарантий против подобных злоупотреблений, на практике они не всегда срабатывают [10].
Сама атмосфера расследования, основанная на обвинительной презумпции, оказывает деморализующее влияние не только на несовершеннолетних фигурантов дела, но и на потерпевших, свидетелей. Любой ребенок, вовлеченный в орбиту уголовного процесса, невольно попадает под подозрение, ощущает свою потенциальную «виновность». И это не может не сказываться на его психоэмоциональном самочувствии, готовности сотрудничать со следствием.
Конечно, полностью уйти от элементов принуждения и давления в работе следователя едва ли возможно — слишком велика цена раскрытия преступления, установления истины. Однако грань между законными методами ведения следствия и прямым нарушением прав личности должна быть очерчена максимально четко [3]. И главным критерием здесь, несомненно, должны служить интересы ребенка, приоритет его благополучия над любыми процессуальными и ведомственными соображениями.
Предполагаем, что в дальнейшем совершенствовании нуждается и сам УПК РФ, все еще не вполне учитывающий специфику несовершеннолетних участников процесса. В частности, назрела необходимость унификации норм о допросе и иных следственных действиях с участием малолетних потерпевших и свидетелей, как и необходимость четкого закрепления особого статуса педагога и психолога. Целесообразно также дополнить кодекс положениями о комплексной судебно-психологической экспертизе несовершеннолетних, более детально регламентировать порядок изъятия у них биологических образцов для экспертных исследований.
Важным шагом могло бы стать и введение специальных процедур рассмотрения жалоб несовершеннолетних на действия (бездействие) и решения органов следствия и дознания. Сегодня подобные обращения нередко остаются без должного реагирования именно в силу процессуальной пассивности самих подростков, их неспособности грамотно отстаивать свои права [19]. Создание доступного и оперативного механизма обжалования позволило бы существенно укрепить гарантии несовершеннолетних участников процесса.
Пристального внимания требует и проблема обеспечения полноценной правовой помощи каждому ребенку, вовлеченному в уголовное судопроизводство. К сожалению, институт защиты по назначению далеко не всегда действует эффективно, особенно когда речь идет о малолетних подозреваемых и обвиняемых. Многие адвокаты, участвуя в делах данной категории, проявляют пассивность, формализм, неготовность вникать в психологические нюансы ситуации [18]. Преодолеть эти недостатки можно только путем формирования специализированного корпуса адвокатов, проходящих особую подготовку и аттестацию.
И конечно, надежным заслоном от любых злоупотреблений должна стать эффективная система ведомственного и судебного контроля за деятельностью органов следствия. Любые сигналы о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних должны становиться предметом немедленного и тщательного разбирательства, влечь неотвратимость дисциплинарной и даже уголовной ответственности виновных. Только так можно реально гарантировать права и законные интересы ребенка в ходе расследования.
Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть: проблема совершенствования следственных действий с участием несовершеннолетних носит комплексный, многоаспектный характер. Она не может быть решена лишь точечной «настройкой» отдельных процессуальных механизмов или сугубо психологическими мерами. Необходимо системное воздействие на весь правоохранительный организм, глубокое переосмысление самих принципов его функционирования.
В конечном счете, речь идет о смене репрессивно-карательной парадигмы правосудия на охранительно-восстановительную, о приоритете профилактики и ресоциализации над возмездием и устрашением.
Литература:
- Антонов И. О., Кондратьев С. А. Процессуальные и психологические особенности проведения следственных действий с участием несовершеннолетних // Психология и право. 2022. Т. 12. № 4. С. 159–171.
- Васюков В. Ф., Мальцев В. В. Тактические особенности следственных действий с участием несовершеннолетних // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 141–146.
- Интервью потерпевших по делу «скопинского маньяка» В. Мохова. URL: https://www.ryazan.kp.ru/daily/27245/4375057/ (дата обращения: 31.01.2025).
- Карепанов Н. В., Чернышева Д. В. Проблемные аспекты психологического сопровождения несовершеннолетних потерпевших на этапе предварительного расследования (на примере событий в казанской гимназии № 175) // Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 1 (32). С. 93–99.
- Кирянина И. А. Актуальные вопросы обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 4 (56). С. 132–137.
- Курмаева Н. А. Проблемы психологического сопровождения несовершеннолетних участников следственных действий // Научный портал МВД России. 2021. № 1 (53). С. 118–125.
- Макаренко М. М., Эксархопуло А. А. Проблемы участия педагога и психолога в следственных действиях с участием несовершеннолетнего // Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15, № 1. С. 144–155.
- Николаева Ю. В. Участие педагога и психолога в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 3 (87). С. 125–130.
- Пономаренко С. И. Психологические особенности расследования преступлений с участием несовершеннолетних // Концепт. 2020. № 3. С. 36–42.
- Савельев А. И., Смолькова И. В. Проблемы обеспечения прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 2 (32). С. 62–68.
- Скичко О. Ю. Нравственно-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Т. 26, № 1. С. 36–42.
- Сокол Юлия Валерьевна, Титова Кристина Александровна О тенденциях преступности несовершеннолетних в Краснодарском крае и Российской Федерации // Вестник КРУ МВД России. 2023. № 4 (62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-tendentsiyah-prestupnosti-nesovershennoletnih-v-krasnodarskom-krae-i-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 31.01.2025).
- Трагедия семьи Беловых в Нижнем Новгороде: шесть убитых детей и выжившая девочка. URL: https://www.mk.ru/social/2015/08/05/yulya-rozhay-eshhe-ubiyca-shesterykh-detey-iz-nizhnego-prinuzhdal-zhenu-beremenet-radi-zhilploshhadi.html (дата обращения: 31.01.2025).
- Ульяновское дело: потерпевшая сменила показания после психологического давления. URL: https://ulpressa.ru/2012/11/01/vyibivayut-pokazaniya/ (дата обращения: 31.01.2025).
- Храмцов К. В. Перспективы совершенствования уголовного судопроизводства по делам о преступлениях несовершеннолетних // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 3 (53). С. 115–121.
- Цветкова Е. В. Процессуальные и тактические аспекты проведения допроса несовершеннолетнего потерпевшего на стадии предварительного расследования // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10. № 5–1. С. 180–191.
- Шувалов Р. Н. Проблема совершенствования процессуального статуса психолога как участника следственных действий с участием несовершеннолетних // Пробелы в российском законодательстве. 2020. Т. 13. № 6. С. 187–191.
- Gordon J. A., Diehl R. L., Anderson L. Does ADHD matter? Examining attention deficit and hyperactivity disorder on the likelihood of recidivism among detained youth // Journal of offender rehabilitation. 2012. Vol. 51. № 8. P. 143–162.
- Moffitt T. E. Male antisocial behaviour in adolescence and beyond // Nature Human Behaviour. 2018. Vol. 2. № 3. P. 53–57.
- Teplin L. A. et al. Psychiatric disorders in youth in juvenile detention // Archives of general psychiatry. 2002. Vol. 59. № 12. P. 81–90.