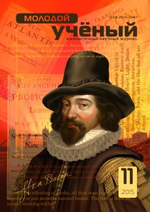«Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный... Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал — свирепствовал тезис Littre, что преступление есть помешательство; приезжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. «Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!» Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред «дешевкой». Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: «двести розог, или тащи ведро». О, дайте, дайте, взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали!» [1. Т.10. С.324] — в этих словах Петра Верховенского звучит страшный приговор Достоевского современной эпохе, они же — отражение амбивалентности концепции безумия, явленной нам самой культурой и откровенно вскрытой русским романистом.
Достоевский в своих произведениях неоднократно обращается к проблеме связи безумия и преступления — болезнь Раскольникова, исступление Рогожина, эпилепсия Смердякова и так далее. Достоевский намечает разные модели этого соотношения, причем движение от одной модели до другой для него — живое движение русского общественного самосознания, исторический процесс. Закономерно этот процесс отражен и в его произведениях: Раскольников находится в поле действия идеи Литтре (время, когда Верховенский «уезжал»), событийное же время «бесов» (когда Верховенский «вернулся») — характеризуется уже другим отношением к проблеме. Это проецируется не только на разницу исторических вех, но и на разницу поколений революционеров, нигилистов и т. д.
Имея дело с феноменами безумия и преступления, мы можем говорить о двух основных аспектах бытования этих явлений в их совокупности. С одной стороны, Достоевский поднимает вопрос тождественности преступника сумасшедшему в плане психофизическом, с другой же — сама сущность преступления как отклонение от основного закона природы, ставящая под угрозу существование человечества как вида в целом, сопоставляется Достоевским с понятием безумия как нарушения нормальной, естественной связи элементов действительности.
Посредством слов Верховенского Достоевский выносит на обозрение сущность современной ему эпохи, и в общем контексте безумного художественного мира Достоевского в новом свете предстает комплекс явлений, которые принято считать отклонениями этическими и относить к области морали и нравственности. С этой точки зрения мы ясно видим, что подобное состояние бытия есть ни что иное, как всечеловеческое безумие, как со стороны того, кто его творит, так и относительно тех, кто его принимает, однако согласно перечню признаков, по которым социум разделяет понятие безумного и нормального, оно уже давно перетекло в норму мира, пусть и «жестокого». Наступил момент, «когда весь мир уже на другую дорогу вышел и когда сущую ложь за правду считаем да и от других такой же лжи требуем» [1. Т.14. С.273]. И сложно в таких условиях сохранить образ истины и веры без риска прослыть сумасшедшим: «Вот я раз в жизни взял да и поступил искренно, и что ж, стал для вас точно юродивый» [1. Т.14. С.273].
Р. Г. Назиров [2. С.83] говорит, что появление подобных аномалий в текстах Достоевского обусловлено общим состоянием эпохи, которую Достоевский считал кризисной, неестественной и больной, прежде всего этически. А в больном мире преобладают больные люди. Как следствие, сознание героев Достоевского не может не быть катастрофическим. Герои стремятся скрыться от неправильного, опостылевшего мира, «уйти в себя», как следствие — возникает боязнь открытых пространств (агорафобия), когда же они оказываются не в силах выдержать груз собственных мыслей (Иван: «Тоска до тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве.».. [1. Т.14. С.242]), они стремятся прочь из дома, на воздух, и агорафобия сменяется клаустрофобией. Все это психологически верно показывает нам истоки фобии и невроза, но оправдывает ли психическая болезнь преступление, или преступление вызывает нарушения душевного здоровья человека?
Нет сомнения в том, насколько глубоко Достоевский был озадачен решением вопроса взаимосвязи безумия и преступления. Следует оговорить, что данном случае мы говорим о преступлении в общем понимании, как о форме делинквентного поведения человека. Словами Н. С. Таганцева: «Как показывает само наименование «преступление» <…> такое деяние должно заключать в себе переход, преступление за какой-то предел, отклонение или разрушение чего-либо» [3. С.24]. Уже в этой формулировке нельзя оставить без внимания акцент на преодолении неких границ, с чем мы сталкиваемся при попытке поиска хоть какой-то общей дефиниции безумия, а именно — безумия, как всего, выходящего за пределы нормы на любом ее уровне: психологическом, бихевиористическом, этическом, физиологическом и так далее. Яснее всего эта проблема раскрывается в двух поздних романах Достоевского — «Бесы» и, конечно, «Преступление и наказание». Принципиально, что в одном случае заголовок и тематика соотносятся с одержимостью бесами, что Достоевским мыслится, как одна из граней безумия, в другом же в название прямо вынесена тематическая составляющая романа — преступление, совершенное Раскольниковым. И Раскольников же становится первым, на чью долю выпадает попытка разрешить вышеобозначенные противоречия. Раскольников уверен, что «сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его, выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления; продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму; затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? — он еще не чувствовал себя в силах разрешить». [1. Т.6. С.58]
И тогда рационалистическое мышление Раскольникова находит лазейку: «с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во всё время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им — «не преступление»». [1. Т.6. С.59] В данном случае роль здравого смысла и рационализма в целом состоит в потворстве безумным мотивам преступника. Достаточно вспомнить лишь беседу Раскольникова с офицером: «как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика!» [1. Т.6. С.54] — голый рационализм, способный обосновать любое зло на планете.
Также стоит обратить внимание и на то, что в момент принятия человеком решения нарушить законы естества, из тени выходит еще одна сущность: «это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? <…> я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил<…>Черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! <…>А старушонку эту черт убил, а не я», [1. Т.6. С.321] — слышим мы признание Раскольникова.
Достоевский понимает преступление как безумие в том смысле, что в преступлении человек переходит предел самой человеческой природы, становится нетождественным себе, теряет свое естество («Я себя убил, а не старушонку!»). Сообразно с этой мыслью Достоевский представляет безумие в конкретных образах, выносит наружу внутренние противоречия, которые полагают основу безумию. На примере Раскольникова мы особенно ясно наблюдаем исходную точку преступления — пересечение, казалось бы, несовместимых начал: страдания и решимости, граничащей с бунтом. Преступление Раскольникова началось не с идеи, не с бытовых лишений и потребности в средствах, а с чувства, оно пошло из сердца: «Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить... Я озлился... Именно озлился (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, в угол забился». [1. Т.6. С.320] А озлился он из-за несправедливости мира, из-за неприятия Богом его добрых дел и намерений, и уже эта обида, это страдание перешло в идею, которая хоть каким-то образом объясняла эту несправедливость, в страшную решимость нарушить устройство мира — ну раз он и так не совершенен.
В этом ключе особое значение имеет эпизод разговора Порфирия с Разумихиным:
«- Началось с воззрения социалистов. Известно воззрение: преступление есть протест против ненормальности социального устройства — и только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается, — и ничего!..
— Вот и соврал! — крикнул Порфирий Петрович. Он видимо оживлялся и поминутно смеялся, смотря на Разумихина, чем еще более поджигал его.
— Н-ничего не допускается! — с жаром перебил Разумихин, — не вру!.. Я тебе книжки ихние покажу: всё у них потому, что «среда заела», — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается!». [1. Т.6. С.196–197] Здесь мы можем наблюдать зачатки идеи Раскольникова, но он идет дальше в построении своих умозаключений, так как признать свое преступление результатом того, что «среда заела» для его слишком низко и недопустимо в силу того, что ставит его поступок наряду с перечнем прочих грабежей, насилия и так далее. Это же в свою очередь рушит весь фундамент умопостроений Раскольникова, который зиждется на утверждении, что это убийство — не преступление. Раскольников озвучивает свою теорию: «не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, — более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи». [1. Т.6. С.200] Здесь Раскольников говорит о той подверженности общим правилам и канонам, которые скрывают в человеке его самого, и в какой-то мере преодолеваются самим Достоевским в его произведениях и посредством его героев, но, в отличие от мысли Достоевского, идея Раскольникова пропагандирует не внутреннюю свободу самовыражения, а анархическое бесчинство, которое оказывается лишь мнимой свободой, порабощая самого человека, породившего ее. Раскольников жаждал преступлением продемонстрировать свою волю, а попал в плен идее, которая вела его на преступление, как на казнь: «точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать», он «всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно» [1. Т.6 С.52]
Более того, из признания самого Раскольникова мы узнаем, что уже на начальном этапе его теория терпит фиаско. Рассуждая о сумасшествии преступников, он уверен в возможности избежать подобного состояния ввиду своей исключительности, однако оказывается лишь одним из многих: «Дней за пять до этого дня я ходил как сумасшедший. Никогда не скажу, что я был тогда и в самом деле сумасшедший, и не хочу себя этой ложью оправдывать. Не хочу, не хочу! Я был в полном уме. Я говорю только, что ходил как сумасшедший, и это правда было. Я всё по городу тогда ходил, так, слонялся, и до того доходило, что даже в забытье в какое-то впадал. Это, впрочем, могло быть отчасти и от голоду, потому что, уже целый месяц, право, не знаю, что ел…. Я болен делался, и если б это продлилось еще долее, то с ума бы сошел, или всё на себя доказал, или... уж и не знаю, что было бы». [1. Т.6. С.301]
В дальнейшем в процессе следствия «некоторые (особенно из психологов) допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелек, а потому и не знал, что в нем было, и, не зная, так и снес под камень, но тут же из этого и заключали, что самое преступление не могло иначе и случиться как при некотором временном умопомешательстве, так сказать, при болезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут, кстати, подоспела новейшая модная теория временного умопомешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же давнишнее ипохондрическое состояние Раскольникова было заявлено до точности многими свидетелями, доктором Зосимовым, прежними его товарищами, хозяйкой, прислугой. Всё это сильно способствовало заключению, что Раскольников не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя, но что тут что-то другое». [1. Т.6. С.411] В данном случае мы видим не только иронию Достоевского относительно активного вхождения психиатрического элемента в практику судопроизводства, но и сам принцип вычленения нарушения психики, основанные на несоответствии поступков человека актуальной прагматике: «Болезненное и бедственное состояние преступника до совершения преступления не подвергалось ни малейшему сомнению. То, что он не воспользовался ограбленным, зачтено частию за действие пробудившегося раскаяния, частию за несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления. Обстоятельство нечаянного убийства Лизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение: человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая! Наконец, явка с повинною, в то самое время, когда дело необыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера (Николая) и, кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось (Порфирий Петрович вполне сдержал слово), всё это окончательно способствовало смягчению участи обвиненного». [1. Т.6. С.411] Ранее эту позиция представляет Разумихин: «Я пришел только узнать лично и окончательно: правда ли, во-первых, что ты сумасшедший? Про тебя, видишь ли, существует убеждение (ну, там, где-нибудь), что ты, может быть, сумасшедший или очень к тому наклонен. Признаюсь тебе, я и сам сильно был наклонен поддерживать это мнение, во-первых, судя по твоим глупым и отчасти гнусным поступкам (ничем не объяснимым), а во-вторых, по твоему недавнему поведению с матерью и сестрой. Только изверг и подлец, если не сумасшедший, мог бы так поступить с ними, как ты поступил; а следственно, ты сумасшедший.».. [1. Т.6. С.338].
Однако по мысли Достоевского, невозможно разделять преступление и сумасшествие, так как само «личное хотение» совершить преступление уже является безумием, поведенческие же и медицинские симптомы — лишь внешнее отражение общего диагноза, коим является безумие — болезнь не умственная, но душевная.
В «Бесах» Ставрогин еще в начале романа после ретроспективной биографической справки сообщает Липутину: «я в самом деле... был нездоров<…> да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?» [1. Т.10. С.44], а вся идея Верховенского строится на исключительности Ставрогина, который должен «поднять у них знамя» [1. Т.10. С.201], стать главным убийцей, а обусловлено это стремление «необыкновенной способностью к преступлению» [1. Т.10. С.201] со стороны Ставрогина. И хотя сам лично Ставрогин совершает лишь одно преступление, ставшей основой исповеди, но ответственность за цепь насилия, охватившего город, косвенным образом ложится на плечи Ставрогина, что он ясно сознает: «Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц» [1. Т.10. С.407]. Верховенский, по своему обыкновению, поддерживает интригу сумасшествия: «Да поймите же по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек!- кричал изо всей силы Петр Степанович, — ведь все-таки жена его убита. Видите, как он бледен... Ведь он с вами же всю ночь пробыл, ни на минуту не отходил, как же его подозревать?» [1. Т.10. С.407]. Итогом подобного смешения страдания и дерзновения и являются безумные видения Ставрогина и его последующее самоубийство, что тоже является безумием относительно человеческого естества.
Преступники, как и сумасшедшие на протяжении всей мировой истории, как сознательно, так и нет, оказываются исключены человечеством из общего рода людского и представляют собой некое обособленное существование — античеловечество, где каждый преступник, как и каждый безумец, узнает другого, например, встретившись с Раскольниковым, Свидригайлов сразу опознает его как такого же убийцу: «Давеча, как я вошёл и увидел… тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть!»[1. Т.6. С.67].
Как мы можем наблюдать, посредством бытования в текстах феномена безумия Достоевский открывает завесу не только человеческой психологии, но также вопросов веры, свободы и, несомненно, преступления. Так как главной проблемой в работе с феноменом безумия является сложность в принятии его единственно верной и при этом всеобъемлющей дефиниции, а творчество Достоевского представляет нам как варианты понимания безумия в ключе психо-физиологическом, клиническом, когда безумие мыслится болезнью телесной, так и в метафизическом плане — как отклонение от самого естества бытия, то сущность взаимодействия безумия и преступления также остается непреодолимо амбивалетной. Вопрос, поднимаемый Достоевским, — безумие ли порождает преступление или преступление лишает человека истинно человеческого, повергая его в безумие, — оставлен им открытым. Но всем, кто, глядя на полный ужасов мир Достоевского, в котором царит хаос насилия, теряет веру в спасение от всеобщего мрака безумия и преступления, великий классик предлагает выход простой и давно известный: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» [4]. И «полюбите жизнь больше, чем смысл ее» [1. Т. 14. С.2].
Литература:
1. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
2. Назиров Р. Г. Творческие принципы Ф. М. Достоевского. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1982. 160 с.
3. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1. — М., 1994. 317 с.
4. Ин 13:34