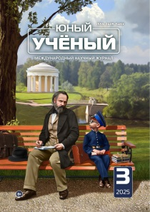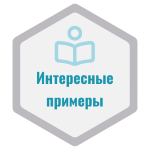В статье поднимаются малоизученные на сегодняшний день вопросы, связанные с особенностями создания женских образов в прозе о любви писателя второй половины ХХ века Юрия Павловича Казакова.
Автор статьи раскрывает заявленную тему с опорой на такие казаковские рассказы, как «Голубое и зеленое», «Манька», «Осень в дубовых лесах», «Адам и Ева».
Представленные материалы будут полезны всем, кто интересуется русской прозой второй половины ХХ века.
Ключевые слова: Ю. П. Казаков, женские образы, проза о любви, художественная деталь, портрет.
Во все времена тема любви была «живой и жгучей» [1] для философов, художников, композиторов, поэтов и прозаиков. Они стремились понять ее сущность, по-своему выразить восторг первого чувства, красоту и очарование женщины, раскрыть и объяснить глубинное и таинственное единство любви, жизни и смерти. «Любовь всегда была и есть главная тема искусства, — справедливо писал по этому поводу П. Успенский. — <…> Здесь сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции» [4, с. 221]. В творчестве Ю. П. Казакова значительное место отведено теме любви, осмыслению ее природы и роли в жизни человека.
В прозе о любви Ю. П. Казаков особое внимание уделяют женщине, ее природной красоте. Писатель поклоняется женщине «без сентиментального слюнтяйства» [3, с. 63]. Ю. П. Казаков не ставит перед собой цель — проникнуть в суть женской природы или детально отобразить прелесть физического совершенства героинь. В них нет обаятельной невесомости, иррациональности и таинственности. Ю. П. Казаков стремится к краткости и одновременно с этим яркости и емкости образов. Поведение его героинь, всегда естественное и непринужденное, не требует особого объяснения или разгадки.
В рассказах Ю. П. Казакова женщин мы видим глазами влюбленных в них мужчин. Встречаются описания внешнего облика женщины, в котором герой обращает внимание на ее лицо, глаза, волосы, руки, одежду. Очарование и молодость Лили из рассказа Ю. П. Казакова «Голубое и зеленое» (1956) вызывает у юного романтика Алеши неподдельное восхищение и трепет. «Легкая фигура», «прекрасное лицо», «блестящие серые глаза», «розовые крепкие щеки» с ямочками, «высокий чистый лоб», «длинный темный волос» делают ее особенной в глазах своего возлюбленного. С восторгом и нежностью, рожденными первым чувством, он искренне восклицает: «Какая она красивая!»; «Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!»; «Какая необыкновенная, нежная рука!» [2, с. 28, 30]. Каждое определение содержит в себе долю оценки героем внешнего очарования и неповторимости Лили.
Наравне с физической красотой женщины казаковских героев-мужчин интересуют и ее внутренние, душевные качества: умение понять возлюбленного, принять его таким, какой он есть, ее способность к самопожертвованию и даже своего рода самоотречению.
Героиня рассказа «Осень в дубовых лесах» (1961) готова к любым невзгодам и «самопожертвенности» (И. Кузьмичев) ради любви. В ее внешнем виде и речи отчетливо угадываются поморские корни: «сиплый низкий голос», «крепкое тело», «шершавые руки». Все это герой любит в ней, романтично сравнивая ее самобытность с «дыханием нездешней птицы» [2, с. 223]. Постоянно отмечая в характере и облике героини жесткость и силу, Ю. П. Казаков подчеркивает ее несхожесть с возлюбленным по уровню интеллекта и образу жизни: «Она крепко спала ночами <…> потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду…» [2, с. 238]. Сила воли, воспитанная суровой северной жизнью, и безотчетная, интуитивная вера в собственное чувство помогли этой женщине решиться уехать из родных мест к любимому на берег Оки, чтобы разделить с ним минуты их общего счастья.
С этой же целью приезжает из Москвы на остров Сег-Погост Вика, возлюбленная художника Агеева («Адам и Ева», 1962). Встретив ее на вокзале, он окидывает Вику своим профессиональным взглядом и с радостным удивлением отмечает, что она очень хороша: «рука в сетчатой перчатке», постриженные волосы, «с татарским разрезом глаза», рот «ал, туг, губы потресканы, сухи и полуоткрыты, как у ребенка» [2, с. 245]. Последнее сравнение появляется в описании девушки, на наш взгляд, не случайно. Оно словно ненавязчиво предрешает тональность дальнейших отношений между героями и их развязку. Ее неопределенная улыбка вместо ответа, «упрямое и обиженное лицо» (опять-таки, как у ребенка), ее нежелание или неумение понимать творческие устремления и чаяния возлюбленного вызывают у Агеева злость и приводят его в бешенство. Вика — последняя надежда на спасение — постепенно превращается для него в духовно чужого человека.
В рассмотренных рассказах Ю. П. Казаков сумел представить свой взгляд на женщину, ее физическую красоту и важные внутренние качества, создать яркие образы путем обрисовки их внешнего облика и поведения. В большей степени Ю. П. Казаков обращается к внутреннему миру женщины, ее гармоничным человеческим качествам, главными из которых, по мнению художника, являются способность к самоотречению, душевная щедрость, умение понимать своего возлюбленного, любить его бескорыстно и упоительно.
Отличительной особенностью женских образов в прозе Ю. П. Казакова является их наполненность некоторыми повторяющимися элементами, которые, на наш взгляд, заключают в себе определенный символический смысл. Среди них можно выделить: упавшие на лоб пряди волос; сухие, потрескавшиеся губы; сиплый, низкий голос. Названные элементы органично вплетаются автором в ткань повествования в момент наивысшего счастья, радости или сильного потрясения, которое испытывают герои.
Интересно и то, что Ю. П. Казаков в некоторых рассказах о любви вводит одористические элементы, стремясь подчеркнуть индивидуальность каждой из героинь: «…Я целовал ее, пахнущую морозом» («Голубое и зеленое»); «Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием спросил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки» («Манька»); «От ее волос пахло горько и непонятно», «… Во всем чувствовалось присутствие молодой женщины, и пахло духами» («Адам и Ева») [2].
Итак, приведенные наблюдения позволяют нам говорить о том, что женским образам в рассказах о любви Ю. П. Казаков уделяют значительное внимание. Средствами художественного воплощения женских образов в казаковской прозе становятся портрет, насыщенная детализация (например, введение одористических элементов). Писатель фокусирует внимание не на физической красоте женщины, а на ее внутреннем (духовном) мире, который является для его героев-мужчин определяющим в выстраивании крепких отношений.
Литература:
- Гершензон, М. О. Мечта и мысль И. С. Тургенева / М. О. Гершензон. — М., 1919. — 240 с.
- Казаков, Ю. П. Избранное. / Ю. П. Казаков. — М., 2004. — 656 с.
- Кузьмичев, И. С. Юрий Казаков: набросок портрета / И. С. Кузьмичев. — Л.: Сов. писатель, 1986. — 272 с.
- Успенский, П. Искусство и любовь / П. Успенский // Русский Эрос, или Философия любви в России. — М.: Прогресс, 1991. — С. 221–231.